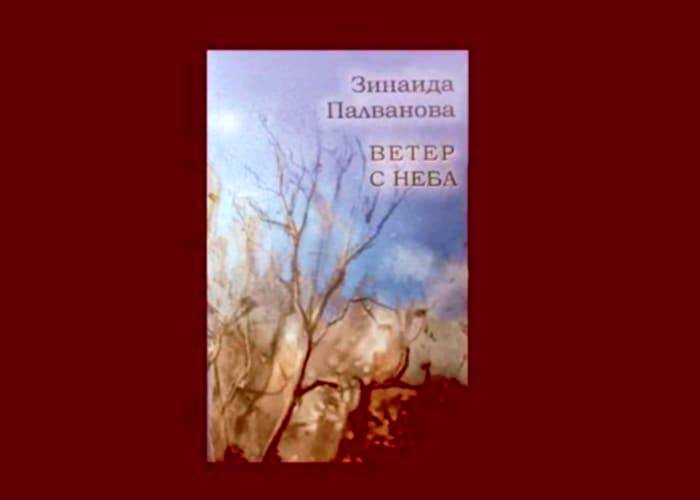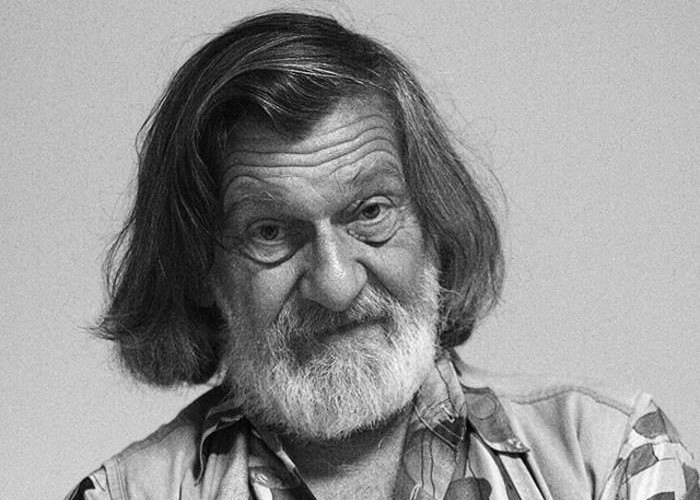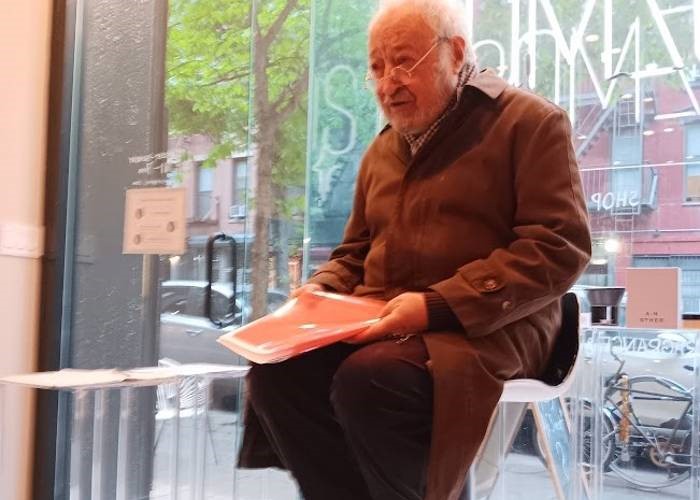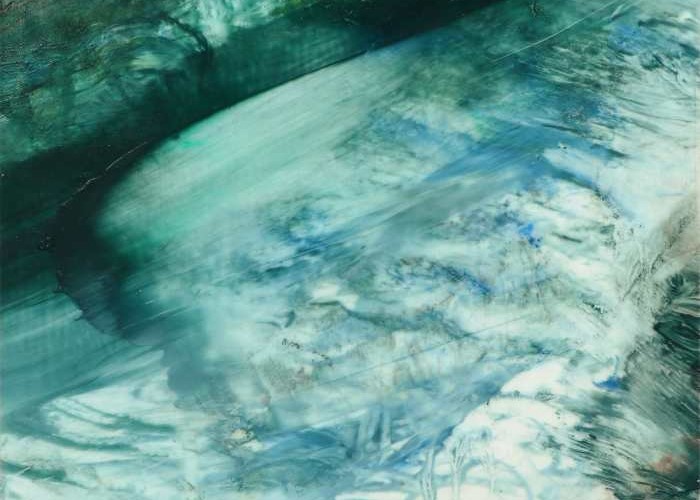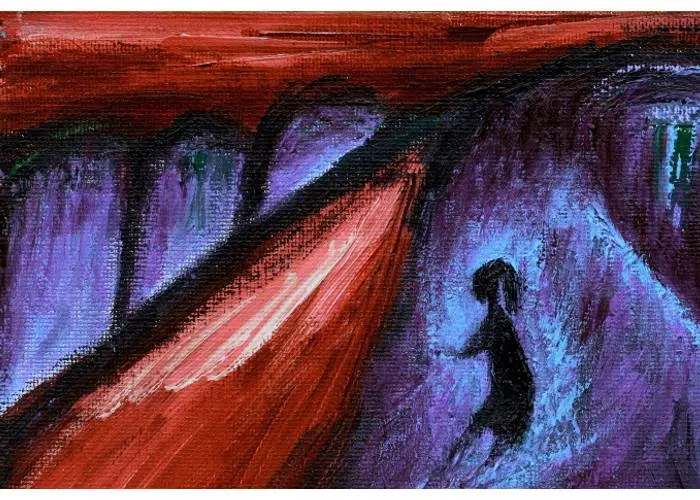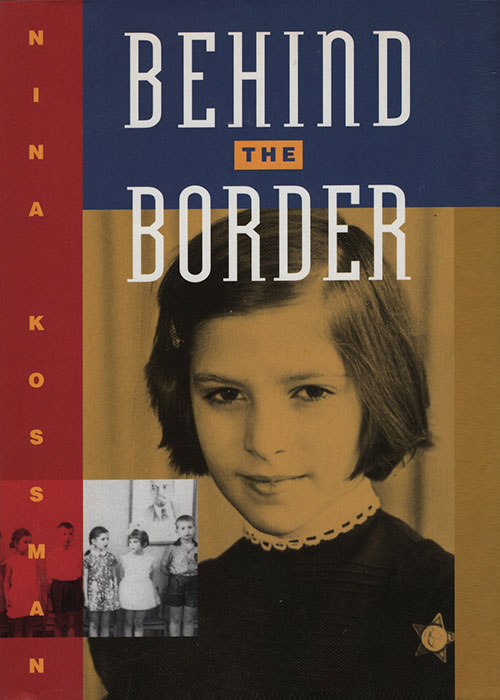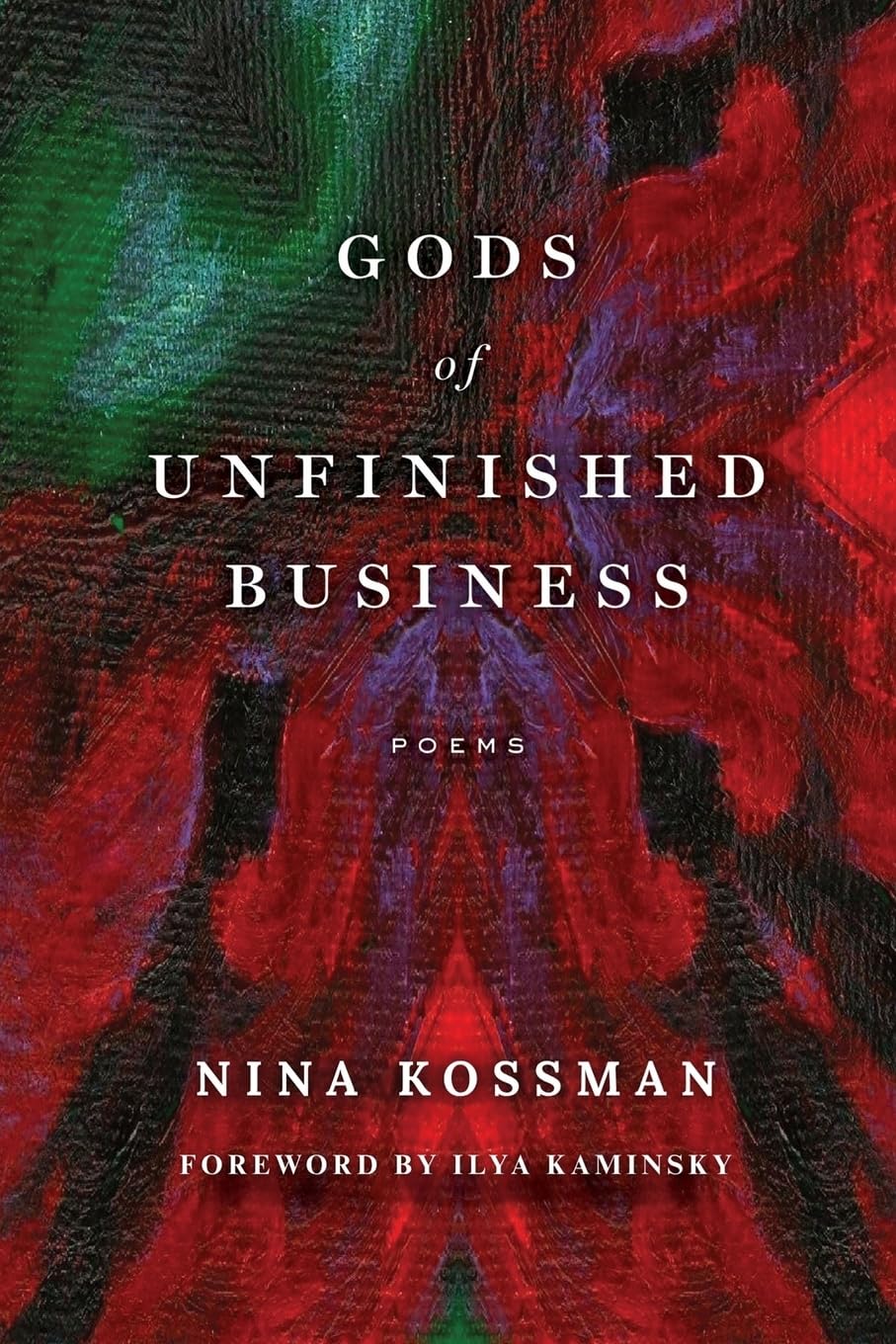Вхожу в свой дом, в котором не родился,
не жил и никогда не поселюсь,
и вспоминаю то, чего не знал,
и понимаю то, чего не помню,
но знаю: здесь я до рожденья жил
в отцовском детстве и в чужом наречье.
Вот мать отца (которую не в силах
я бабушкой назвать — в глаза не видел),
идет на рынок странной незнакомкой,
по улице Словацкого спускаясь,
часы на башне приближают время,
когда по той же улице, но в гору
вернется из гимназии отец,
минуя синагогу, где теперь
публичная библиотека, но
неужто этот мальчик долговязый
отец мне? — он давно уже мне сын,
расстроенный четверкой, потому что
сказал ему учитель, что еврей
не может польский знать отлично: проще
стать обезьяне человеком, — полно,
не надо плакать, мальчик, успокойся:
С тобою мы немало языков
освоили за два тысячелетья,
нас наше знанье увело от Бога,
смешав среди народов и наречий
(в свой час и мне письменники расскажут,
что русский, мол, испортили евреи).
Входи же в дом: владелец Лео Готфрид
каким-то чудом спасся (он в Нью-Йорке),
входи в квартиру (parter — значит “первый»)
и робко постучись: «К вам можно, татусь?»,
и отрывая деда от мольберта,
поведай эту первую обиду,
и дед тебя расстрелянный утешит
(беседовать до смерти будешь с ним
и петь во снах «Эль Мале Рахамим»).
Входи ж смелее: это отчий дом.
Потом, когда отправят в гетто тех,
кого не расстреляли в первый месяц,
еврейские квартиры и дома
займут соседи и поделят вещи,
и двадцатитрехлетний, ты придешь
израненным домой, освободитель,
но в сорок пятом на порог не пустят
тебя, пришельца, новые владельцы,
и ты, узнав, что все давно погибли,
уйдешь, границей, словно дверью, хлопнув.
В России ты окажешься, не зная,
что в час, когда ты дрался за Варшаву,
твой город Сталин с Гитлером делили
(кремнистый Сан — единственный свидетель,
межою стал меж смертью и бесчестьем).
И я там был, и встретил тех евреев
на кладбище заросшем, где деревья
корнями камни вырывают, где
плита — четыре тысячи убитых —
стоит на пятачке средь запустенья.
Прекрасный город по холмам взбегает, —
очищенный от скверны: юденрайн.
Квартиру на клетушки поделили,
в одном крыле ютятся пять семей, —
никто не помнит деда. Амнезия.
В том городке забвения осталось
шесть стариков-евреев, остальные
из выживших ушли, чтоб не вернуться…
Неужто сам Господь бессилен был,
неужто это Он шесть миллионов
стезею концентрационной вывел,
путь своему народу указав
перстом печей освенцимских к спасенью?
Я верю: мир спасется от потопа
и амнезии, вспомнив Хиросиму,
Афганистан и маленький Чернобыль,
когда оттуда шестикрылый голубь
с диковинною ветвью прилетит
и сядет на освенцимской трубе.
1988
Стихотворение было включено в сборник стихов Яна Пробштейна «Две стороны медали».