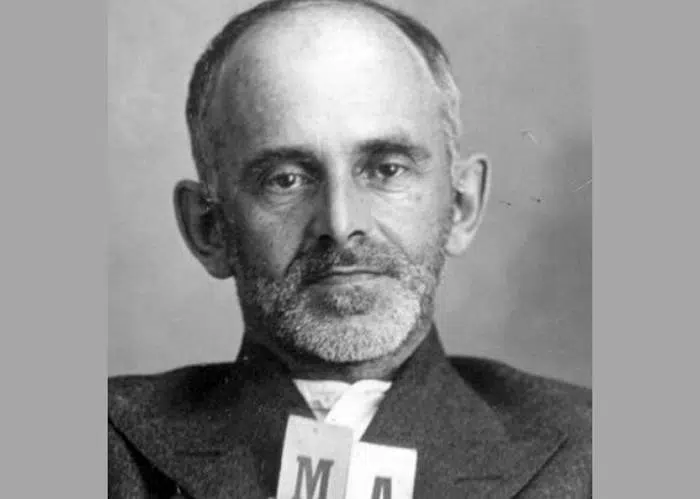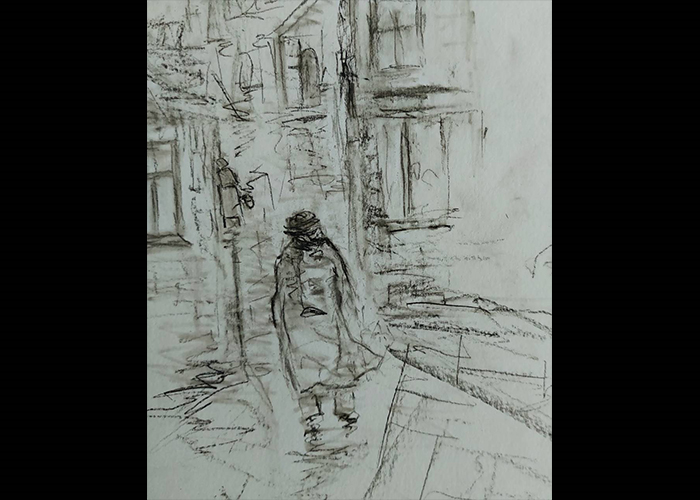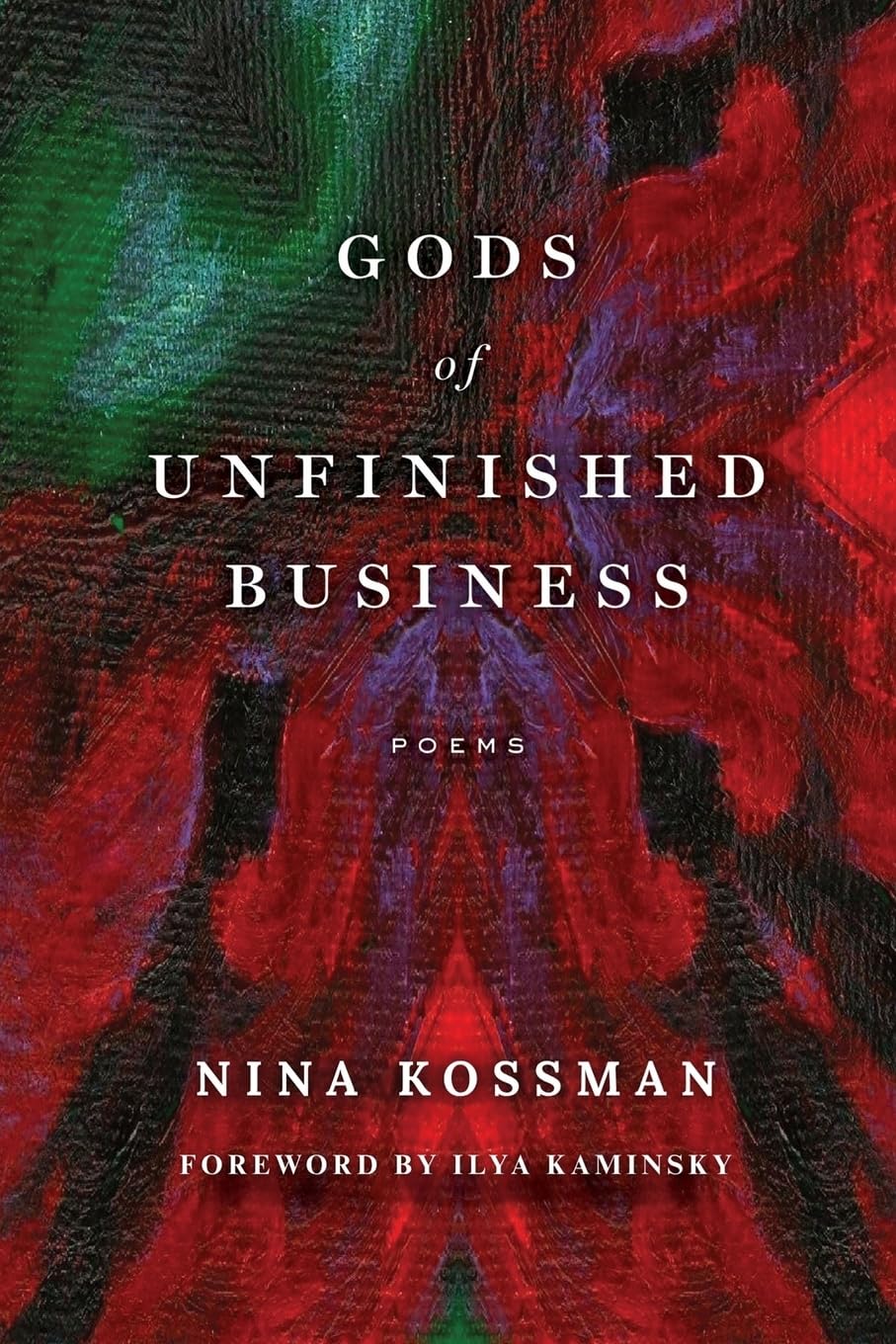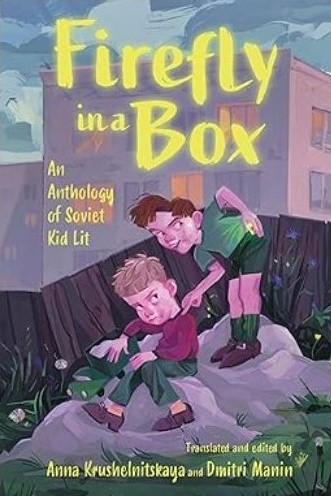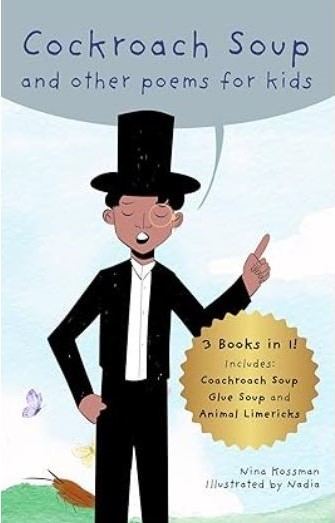Было это так давно, что никакого Сфинкса ещё и не было. И луны тоже не было. А играли покамест в домино и «царя гороха». Спрячут в тесто горошинку, испекут каравай и ну угощать им прохожего-перехожего, а кому выпадет каравайный отрез с горошиной, того нарядят в бумазейную корону, в парчовую тряпку и величают царем-горохом. Да водят вокруг него хороводы. Вот как давно это было. Поэтому и говорят: «при царе-горохе».
Жил-был в те поры богатый нефтяной промышленник. А небогатые нефтяные промышленники разве бывают? Торговал же и бумагой, и акциями, и деревами, и дериватами. И были у него и газеты, и прикормленные бумажные журналисты. А сами слова, вот эти козявки, про которые, чтоб захотел, и как захочешь, так бы и станцевали под промышленную дуду или вовсе чтоб сидели в коробке или принадлежали только ему, наколотые на иголочку, – такого не было. И он приходит в Нормативную палату. И говорит: отсыпьте мне горсть словесной руды, чтобы мне энной количествой индивидуально владеть. А никто другой бы не имел никакой возможности к им прикасаться. А ему: пожалте заплатить столько и столько, поставьте здесь подпись и владейте, когда захотите. Понравилось промышленнику: вот идёт, скажем, человек, разговаривает по телефону или с соседом, хочет, понимаешь, сказать обыкновенное слово, а язык – как раз как будто поскользнулся. Хочешь, понимаешь, написать обыкновенное слово – а раз-раз: рука и проскальзывает. Понятно: значит, нет никакой возможности написать или произнести слово, только мысленно. Читать можно, но только уже напечатанное. А самому – нет. Только скользкий пробел.
Промышленник хап ещё с несколько горстей, какие в карманы поместились, а потом и вовсе весь словарь. Сам балаболит, пока воздух не кончится в зобу – а остальные: ни гу-гу. А бумажных журналистов засадил писать купленными словами книги, чтобы народ ими снабжать. Вот как он завладел словом! Всяк теперь пляшет под его дуду. А куда денешься? Хочешь чего сказать: достаёшь разговорник промышленника и пальцем по нему водишь: мне, мол, водички продайте или хлебушка. Так и ходили поначалу с разговорниками. И на этом промышленник ещё больше заработал, чем на нефти и дериватах.
От слов, оставшихся в публичном употреблении, надо сказать, остались настоящие огрызки, обглоданные, так сказать, кости языка. Не всем было весело от такого узкого положения. И начали выворачиваться. Сначала взяли переговариваться жестами, потом напридумают слов, как семечек, и давай их щёлкать. Кто задом наперёд разговаривает, кто перемешает слоги, кто исковеркает их такими звуковым неправдоподобьем, что моя твоя невозможно андерстанд. Идёшь мимо и диву даёшься: зоопарк шпрехен шпрах гешпрохен!
Историческая лингвистика позднее насчитала полсотни локальных и групповых антицензурных наречий. Каждый любил поговорить по-своему, мычать или бекать. В моду вошли особенные болталии – ток-шоу, на котором надо переболтать всех остальных на сиюсекундном, импровизированном языке.
Но это только начало. Через неделю после успеха болталий общество пошатнулось. Никто не хотел слушать и понимать другого. Каждый говорил сам по себе. Справочники, конечно, разговорники и всю остальную бумажную литературу сбывали, чтобы приобрести последние остатки хлеба и одежды. В обществе – как зафиксировала позднее историческая наука – пробежал мохнатый Раздрай. Практикуется множество самодельных, недоделанных языков. Множество мелких групп, не понимающих и не взаимодействующих, но воюющих. За последние неразворованные средства производства. Отовсюду слышны разборки, локальные войны и конфликты. Заводы встали, склады растащили, земли забросили. Города и сёла погружены во тьму. Распалась связь времён, и с небес, гремя кирпичами, рухнула Вавилонская башня. Общество, как горько замечает историк в лирическом отступлении, без общего языка – развалины Вавилонской башни.
Помимо того, что мало кто чего мог понимать, начались повальные сумасшествия, потому что уже не могли связно и объемно размышлять. Последние находившиеся в сознании личности, как свечи в ночи, ещё светили собой, чтобы объединять вокруг себя деградирующую толпу.
Промышленник тот сам опустился и смешался с остальными. Последнее, что он помнил, – это как прибегает в Нормативную палату отказываться от своих языковых прав и претензий, но уже поздно, все утратили речевой слух, исходный язык мелкому бюрократу за регистрационным столиком кажется чужим, сложным, враждебным и вражеским.
И вот, восклицает историк, народ погибает в невежестве и сумасшествии…
Но в это самое время свою очередную поэму благополучно заканчивает поэт-отшельник. Два с половиной месяца он не выходил из дому, не включал телевизор и не читал френдленту. Теперь, когда была поставлена последняя точка, он вприпрыжку отправился в магазин за вином. И что же он видит? По улицам бродят одичавшие, бессловесные твари, только прямохождением и неискоренимой привычкой становиться в очереди ещё напоминающие человека. Так-так, обратился поэт к одному гражданину, сохранившему штаны, а вы не подскажете, что всё это значит? Гражданин отшатнулся от него и в ужасе бежал. А потом привёл за собой немую, голодную толпу. Ага, понял поэт, вот в чём дело! Был утрачен язык. Было утеряно вдохновение. Был разрушен внутренний хрупкий микрокосм. Как раз об этом моя последняя поэма. Ну что, Прометей, начнём, засучив рукава, зиждить новый мир!
И поэт собрал людей и посадил их перед собой кружком. Он читал лекции о стихосложении и красноречии, наизусть цитировал лучшие монологи человечества, пассажи из Шекспира и периоды из Пруста, песни из Гомера, повести из «Временных лет», ну и, конечно, самые любимые и удачные строки собственного сочинения. Но только совсем чуть-чуть. Это была неслыханная, невиданная возможность: подарить людям новую эру, озарённую чистым, мощным, звучным Словом, которое снизойдёт не на темнокожего, светловолосого, англичанина или мадагаскарца, но на племена пушкинцев, пастернаковцев, бродскианцев и набоковцев! Славная, славная будет эпоха, мечтал поэт.
Под вечер, когда сидящим у ног самопровозглашённого учителя надоело скандировать в рифму, обращаться левым полухором к правому с песнями, зубрить скороговорки, пословицы, буриме, складывать верлибры, гекзаметры, хореямбы, дактилевы многосложные псевдоанапесты, народ почесал в подмышках и разошёлся обратно по берлогам и пещерам.
Казалось бы, всё: погибло человечество! Труды миллионов лет погребены под вулканическим пеплом фраз вроде «Мы ленивы и нелюбопытны», под ковром мимолётных бабочек сна, зовущих вас забыться в пещерном углу…
Но в следующий понедельник шёл мимо депутат, ни печален, ни рад. Он вернулся из каникул по Швейцарии и должен был приступить к осенней сессии. Обнаружив плачевное положение дел и рассмотрев сквозь пальцы дилетантские прожекты поэта, он вмиг сооружает из опустившегося электората группу собственной поддержки, организует партию народного единства, гильдию защиты прав человека от человека, движение по защите отечества и отчества ото всего остального. Он говорил приятно и уверенно. Он заблаговременно отвечал на молчаливые вопросы, он вообще умел читать в душах человеков. Он обещал всё, потому что записать его обещания всё равно никто бы не смог. Слушатели единогласно аплодировали.
А через месяц всё наладилось. И всё было ещё прекрасней прежнего. Слова выдавали по карточкам и зачитывались по праздничным дня. И помыслить иное, кроме этих слов, было невозможно. Но все были счастливы. А поэт-отшельник заполз к себе в берлогу сочинять новую поэму, теперь уже совсем постмодернистскую, составленную из разных жанров, стилей, языков и слоистых хронотопов. Настоящую поэму-океан.
Вот вам и весь Витгенштейн.