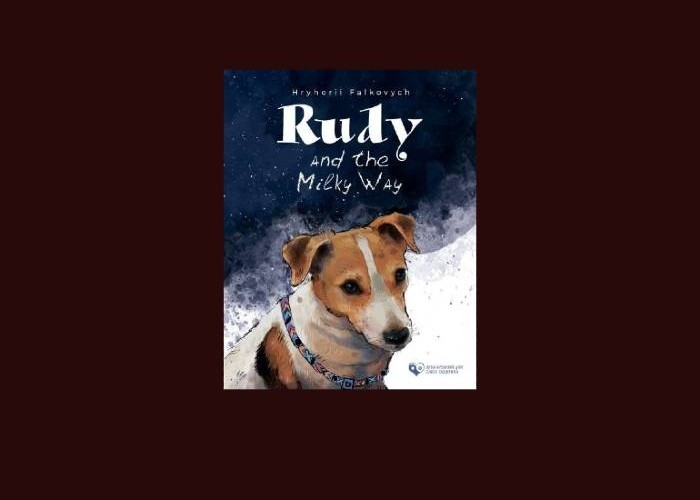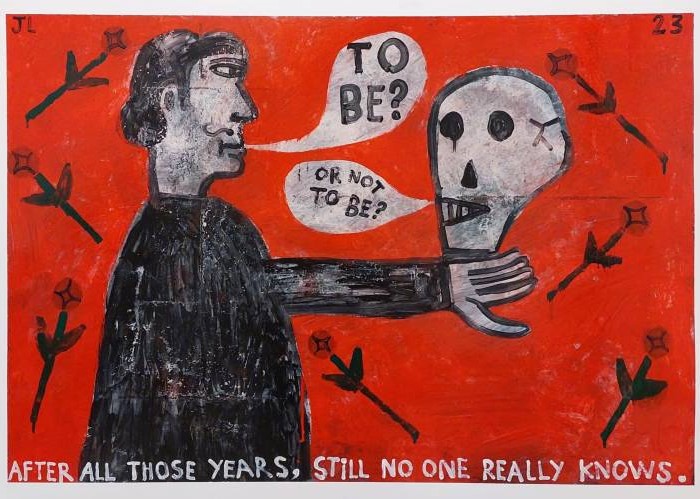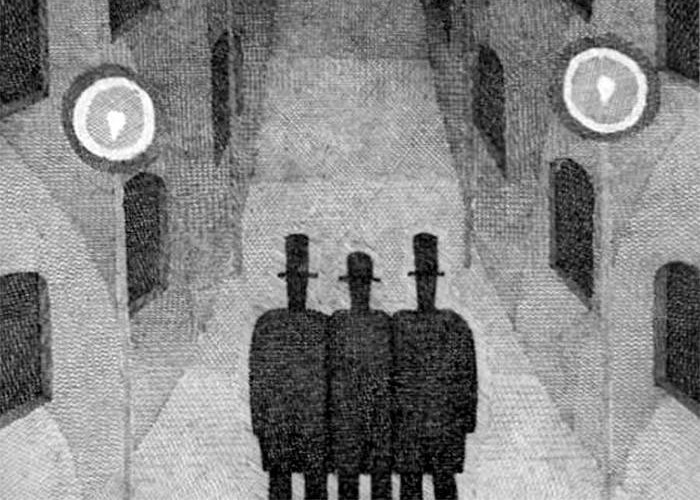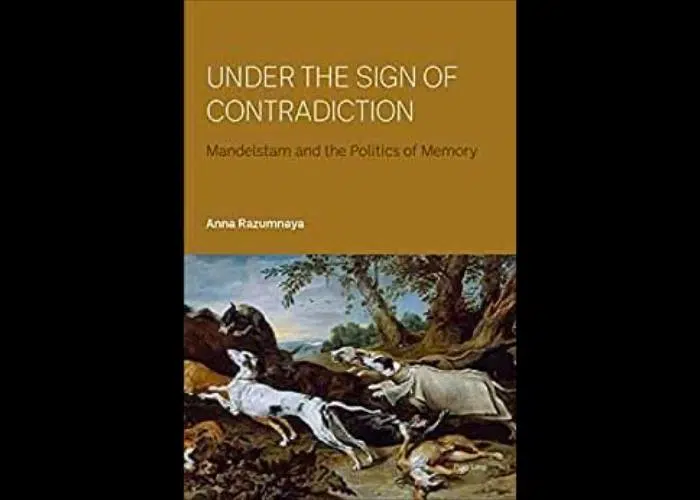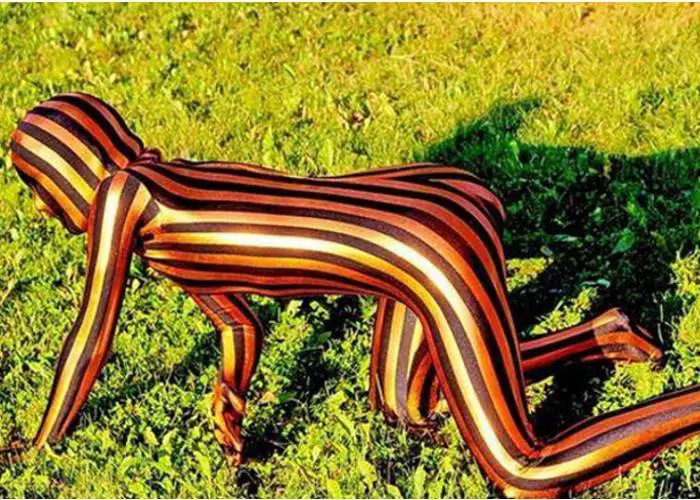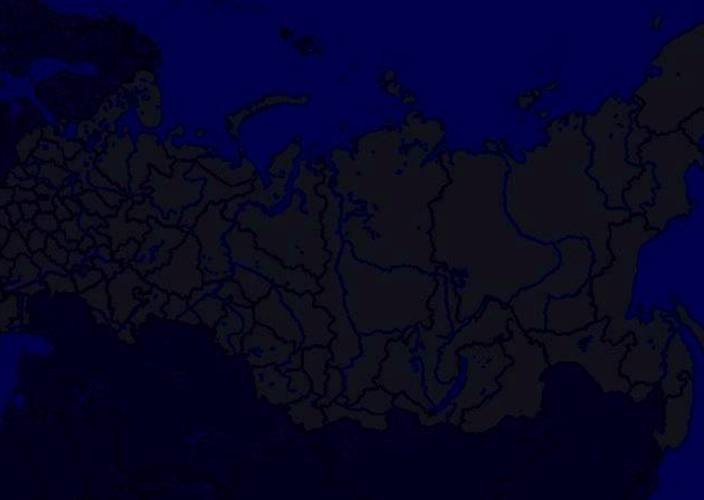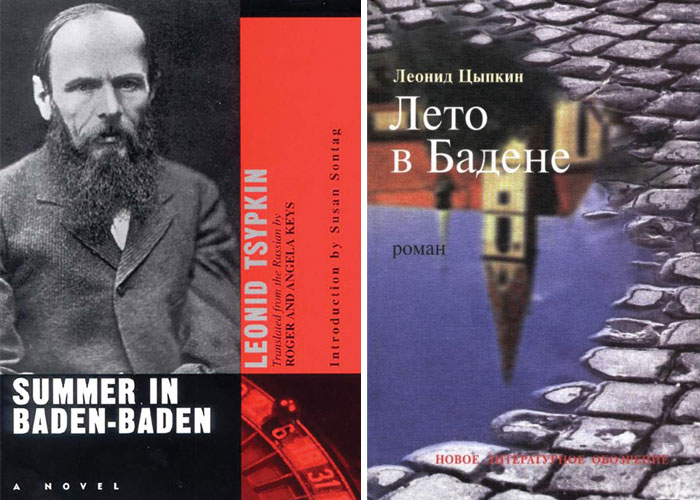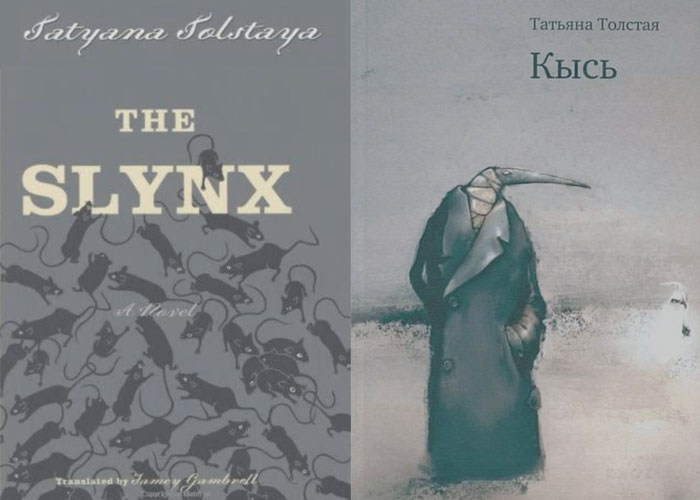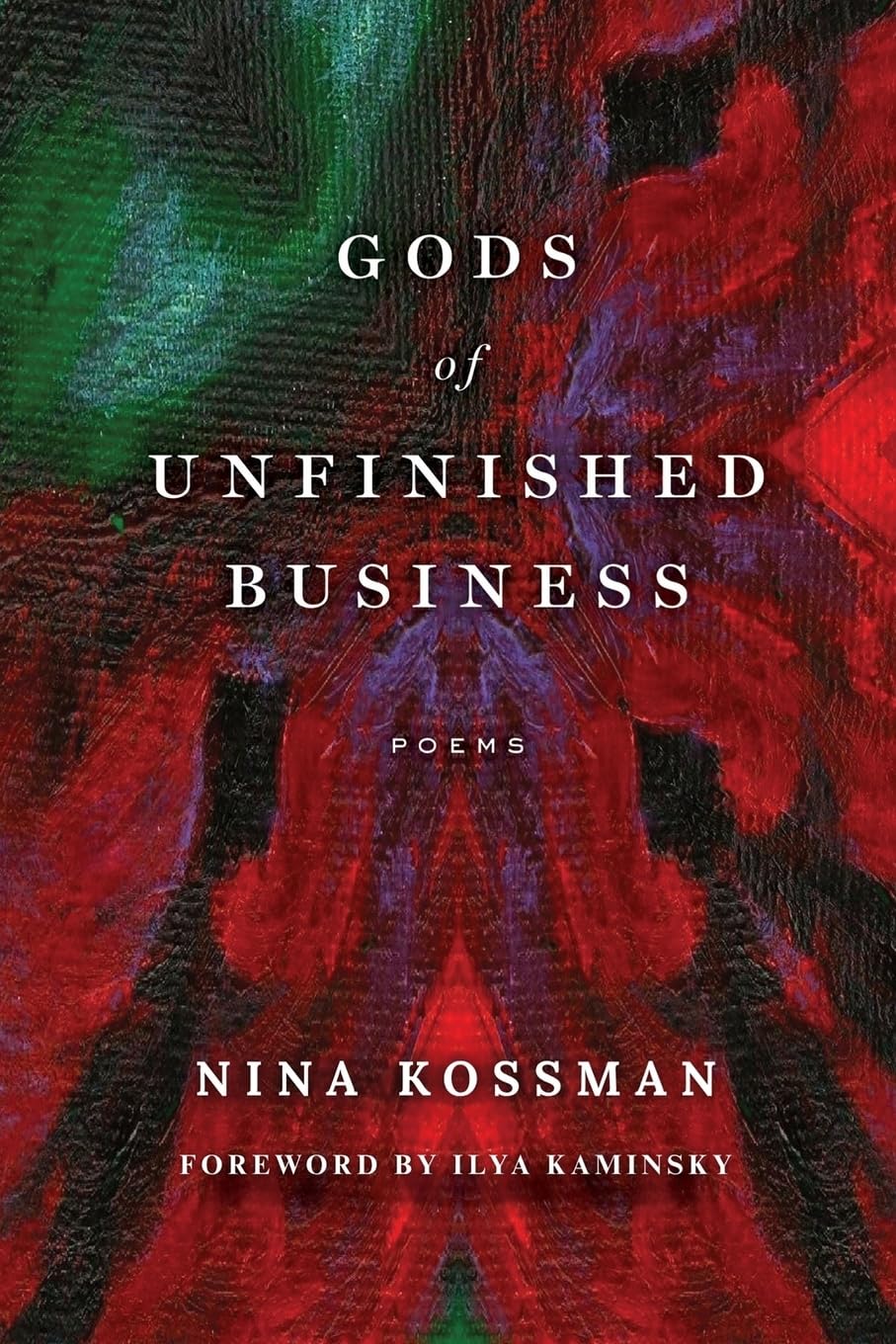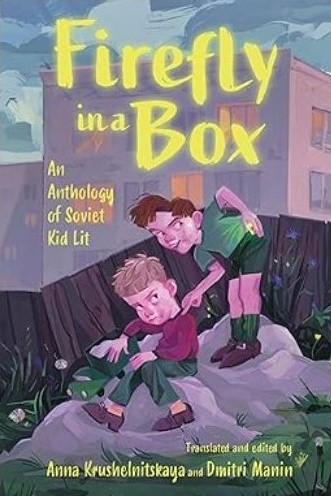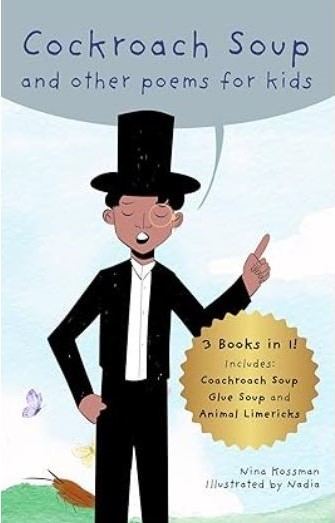ЭССЕ-АПОКРИФ
Характер у Льва Толстого был непростой. Можно сказать, противоречивый. А если уж начистоту — скверный характер был у Льва Толстого.
Максим Горький приезжал в Ясную Поляну и подолгу гулял с графом по окрестным лугам, пытаясь выведать секреты писательского мастерства. Покинув усадьбу, они сперва обычно шли по дороге, после берёзовой рощи поднимались на холм. Тут делали передышку, Толстой выполнял пару физкультурных движений — махал руками и приседал, громко хрустя коленями; Горький отходил в сторону и закуривал папиросу. С холма открывался вид на реку, остов сгоревшей мельницы с чёрным колесом и старую горбатую иву. Другой берег, пологий и скучный переходил в сады, за ними виднелась красная крыша амбара и журавль колодца. Огороды перетекали в поля, лиловые и почти призрачные, на самом горизонте узкой полосой темнел то ли дальний лес, то ли там уже наливалась июльской грозой жирная туча.
После полудня начинало парить и настроение у Толстого обычно портилось. Горький подмечал и становился ласковым. Толстого это злило ещё больше. Хотелось пить, рубаха липла к спине, одолевали мухи. Лев мрачнел, прибавлял шагу, хлёсткой палкой рубил головы встречному репейнику.
Горький шагал следом и округлым баритоном бубнил в спину графу. Тот, не обернувшись ни разу, если и отвечал, то лишь междометиями. Пыхтел, фыркал и крякал. Горький не отставал, донимал ерундой, шутил и сам смеялся. Что-то спрашивал, не дождавшись ответа снова шутил и снова смеялся. Толстой шагал вперёд. Стрижи молча носились над лугом, запад темнел, оттуда ползла гроза.
“Lev Nikolaich, that dream of Anna’s … That dream where the dwarf forges iron and says something in French…” Gorky angrily slapped a horsefly on his cheek. “Bastard, sucking my blood …”
На ходу вытер ладошку брезгливо о штаны.
— Так вот, очень хочу знать, Лев Николаич, каков символизм сна того? Сна Анны?
Граф вдруг остановился и резко повернулся.
— Знать хочешь? — мрачно спросил.
— Хочу, — растерялся Горький.
— Сильно хочешь?
— Да.
Толстой ухмыльнулся, почесал бороду и сплюнул в траву.
— Тогда не скажу.
* * *
Скуку у читателя вызвать элементарно, нужно ему рассказать всё сразу. Эту фразу произнёс Антон Чехов, когда прошлым летом наконец приехал в Ясную Поляну. Пили чай на веранде. Был август, было душно, донимали мухи.
—Ведь это он в меня метит, дохтур, — Толстой осторожно снял божью коровку с бороды и выкинул в сад. — Вот ведь язва.
Подумал, но не сказал ничего. Только крякнул и кипятку подлил из самовара в стакан. Пальцами вытащил из сахарницы кусок рафинада, опустил в чай.
— Яблоками пахнет, — Чехов хрустнул пальцами. — Шафран?
— Чёрт его знает, — отозвался граф, звеня ложкой в стакане. — Вы, Антон Палыч, лучше сушками угощайтесь. И варенье тоже — крыжовник.
— А курить позволите?
Вообще этот Чехов оказался совсем не таким, как представлялся по фотографиям — дохляк в пенсне и с козлиной бородкой, — нет, Чехов был на пол головы повыше самого Толстого, плечистым, к тому с какой-то почти офицерской статью. И баритон — просто жан-премьер в чистом виде. Московское бабьё стаями бегает, должно быть. Но с чего он взял, что я скучно пишу? Это он, должно быть, про Анну, у самого-то, видать, пороху на роман не хватает — рассказики да повестушки кропает. Или от зависти сказал? Хотя не похоже.
— Духота… — Толстой подвинул пепельницу, взял сахарные щипцы, покрутил и положил на скатерть, зачем-то понюхал пальцы. — Духотища…
— К вечеру ливанёт, — Чехов со вкусом затянулся папироской и выпустил дым в сторону. — Август…
Ему хотелось сказать что-то важное, что-то главное — по дороге в Ясную мысли складывались в умные фразы — чёткие, честные, а сейчас на ум приходила выспренняя пошлятина, липкая и гадкая, вроде мёда с песком. Да и ещё эта чёртова жара впридачу…
— А вы, Антон Палыч, — с внезапным воодушевлением спросил Толстой. — Вы плавать умеете?
— Плавать?
— Ну да — плавать, — Толстой изобразил руками будто медведь продирается через кусты. — Плавать!
— У меня и костюма нет…
Граф что-то пренебрежительно буркнул. Вылез из-за стола, шумно — гремя стулом и звеня чайной посудой. Протопал в дом и тут же вернулся с двумя полотенцами. Одно бросил Чехову, другое перекинул через плечо.
Погода начала портиться. Когда поднялись на холм, небо уже затянуло сизой мутью, солнце стало круглой дыркой, яркой, но не слепящей. Жар казался материальным, как в парилке. Внизу оловом темнел изгиб реки, а над серо-жёлтыми полями нависала туча, жирная и косматая. В фиолетовой дали можно было разглядеть тёмные полосы ливня, оттуда долетало глухое ворчание.
К реке спускались кривой тропинкой, убитая глина с отпечатками босых пяток белела как гипс. Снизу поднимались бабы с мокрым бельём, румяные, потные. Примолкли сразу, посторонились, пропуская. Толстой на ходу оглядел баб, задержал взгляд на крепкой молодке, чернявой и бровастой, та стрельнула глазом и отвернулась. Чехов сделал вид, что не заметил, зачем-то начал свистеть. В черновике «Войны и мира» был эпизод, где Элен развлекается с двумя французами одновременно, Софья наткнулась, переписывая: «Фу, Лёвушка, какая мерзость — надо убрать. Молодые барышни будут же читать. Надо убрать». Он и убрал.
От реки тянуло тёплой тиной, из-за ивняка выглядывала новая купальня с мостками. Пахло свежими сосновыми досками.
— Старую прошлым мартом снесло, — Толстой стянул рубаху через голову. — Ледоходом. Срезало вчистую.
Чехов сел на лавку, снял шляпу, положил рядом. Неспешно расшнуровал ботинки. Толстой, уже голый, скомкал одежду и сунул под скамью вместе с сапогами. Гулко топая, пошёл к мосткам. Оглянулся:
— Одежду под лавку, Антон Палыч! И полотенцем накройте — а то сейчас ливанёт. Полотенцем!
Подошёл к краю, начал смешно размахивать руками. Разминался. Тощий зад, борода, седые лохмы — вылитый леший. Кисти рук, крупные и костистые, были кирпичного цвета. Чехов аккуратно скрутил носки, воткнул в ботинки. Доски оказались почти горячими. Он встал, потянулся, чуть помешкав, снял штаны.
Лиловая туча закрыла уже половину неба. Она росла, набухала, рваный край клубился над самой головой. Тугой порыв ветра обдал теплом и пылью, духом сухой травы. По серой воде пронеслась рябь, камыши разом пригнулись. Ивы зашумели, вздрогнули седой изнанкой мелкой листвы. На доски помоста шлёпнулась одна капля, за ней другая, третья.
Толстой что-то зычно выкрикнул и, оттолкнувшись, прыгнул с мостков в реку. Вынырнул, взмахнул руками, снова нырнул. Пошла волна, прибрежные кувшинки в такт закивали жёлтыми цветками. Дождь уже лил вовсю. Чехов, сутулясь, спустился по лестнице в воду, задержался на последней ступеньке. Присел, вытянул шею и поплыл. Шум дождя слился в плотный гремящий гул.
Толстой вынырнул на середине реки, не просто вынырнул, а мощно вырвался на поверхность — с брызгами и рыком. Он кричал, фыркал и размахивал руками, будто пытался взлететь. «Царица небесная! Хорошо-то как!» — повторял, с размаху шлёпая ладонями по воде. Саженками доплыл до мельницы — там под ивой прятались рыбаки — он о чём-то поговорил с ними. Мужики чему-то смеялись, потом достали из воды кукан с огромной щукой.
Чехов, по-женски плавно, доплыл до середины реки, там перевернулся на спину и, раскинув крестом руки, подставил лицо под дождь. Течение лениво тянуло его на юг. От капель невыносимо щекотало в нёбе, Чехов жмурился, ливень бил в лоб, хлестал по векам, по щекам. Сквозь шум дождя до него долетало: «Царица небесная! Хорошо-то как! Хорошо!»
* * *
Чехов уехал под вечер, ночевать отказался, сославшись на кучу дел поутру. Толстой вернулся на террасу, проводил взглядом повозку, когда та скрылась за берёзами, сел в плетёное кресло.
— Вот ведь человек… — бормотал, недовольно царапая ногтём скатерть. — Ведь и душа, и талант — всё есть… всё…
В поезде Чехов записал: «Страшно подумать о той пустоте, которая возникнет в моей жизни, когда его не станет. Кажется, ни одного человека я не любил так полно и так сильно».
Чехов умрёт первым — через девять лет.
«Для меня святая святых, — напишет он, — человеческое тело, здоровье, интеллигентность, талант, вдохновение, любовь и абсолютная свобода — свобода от насилия и фальши, в какие бы одежды они не рядились».
Он умрёт в сорок четыре года — Антон Чехов.
Слава пришла к нему рано, люди, часто незнакомые, обращались к нему за помощью, за советом. Он не отказывал никому. Интеллигент должен быть щедрым, считал он. Щедрым и скромным — Чехов читал все рукописи, которые присылали ему, всегда писал комментарии. Он никогда и никому не отказывал в медицинской помощи, с неимущих денег не брал. Свои гонорары он жертвовал на строительство школ и обустройство госпиталей по всей России, многие из которых открыты и сегодня.
Добро должно твориться скрытно. У щедрости напоказ привкус хвастовства: добродетель превращается в ханжество, а пророк — в зануду. Ни словом, ни делом Чехов никогда не нарушил этих заповедей.
В 1904 году в день его смерти Лев Толстой запишет в дневнике: «Даже не мог представить, что он меня любит так сильно».
——-
Вермонт, 2021