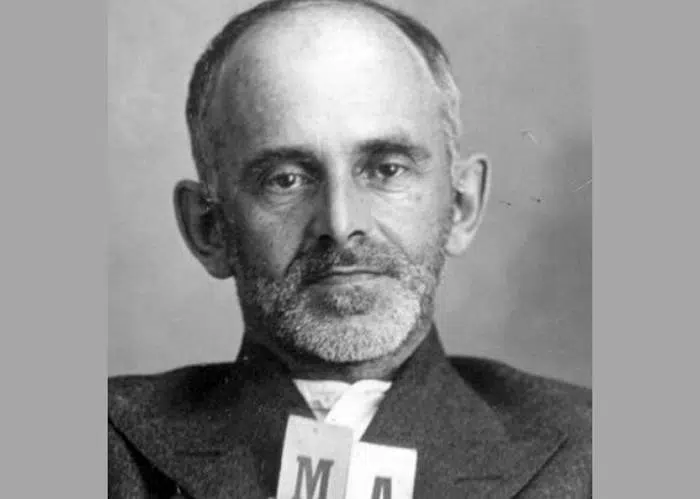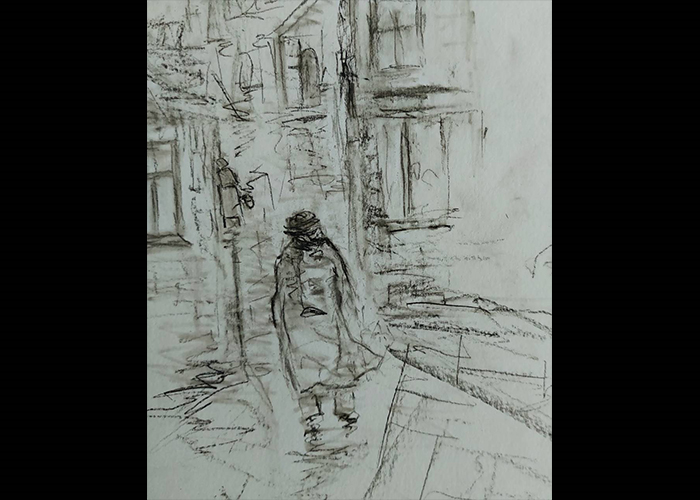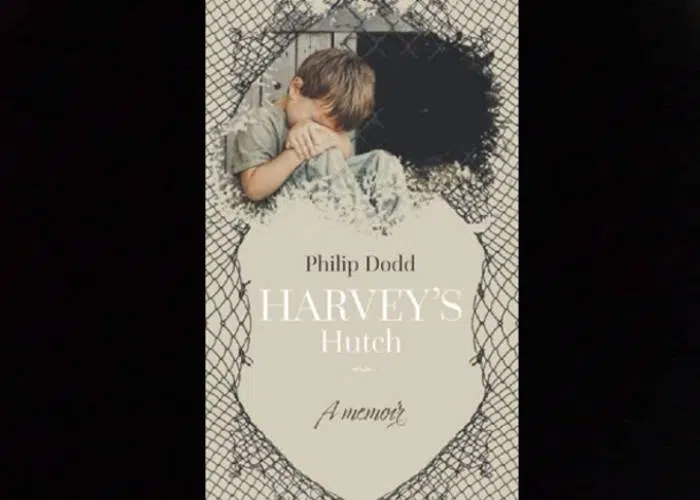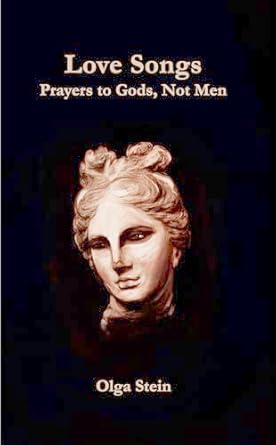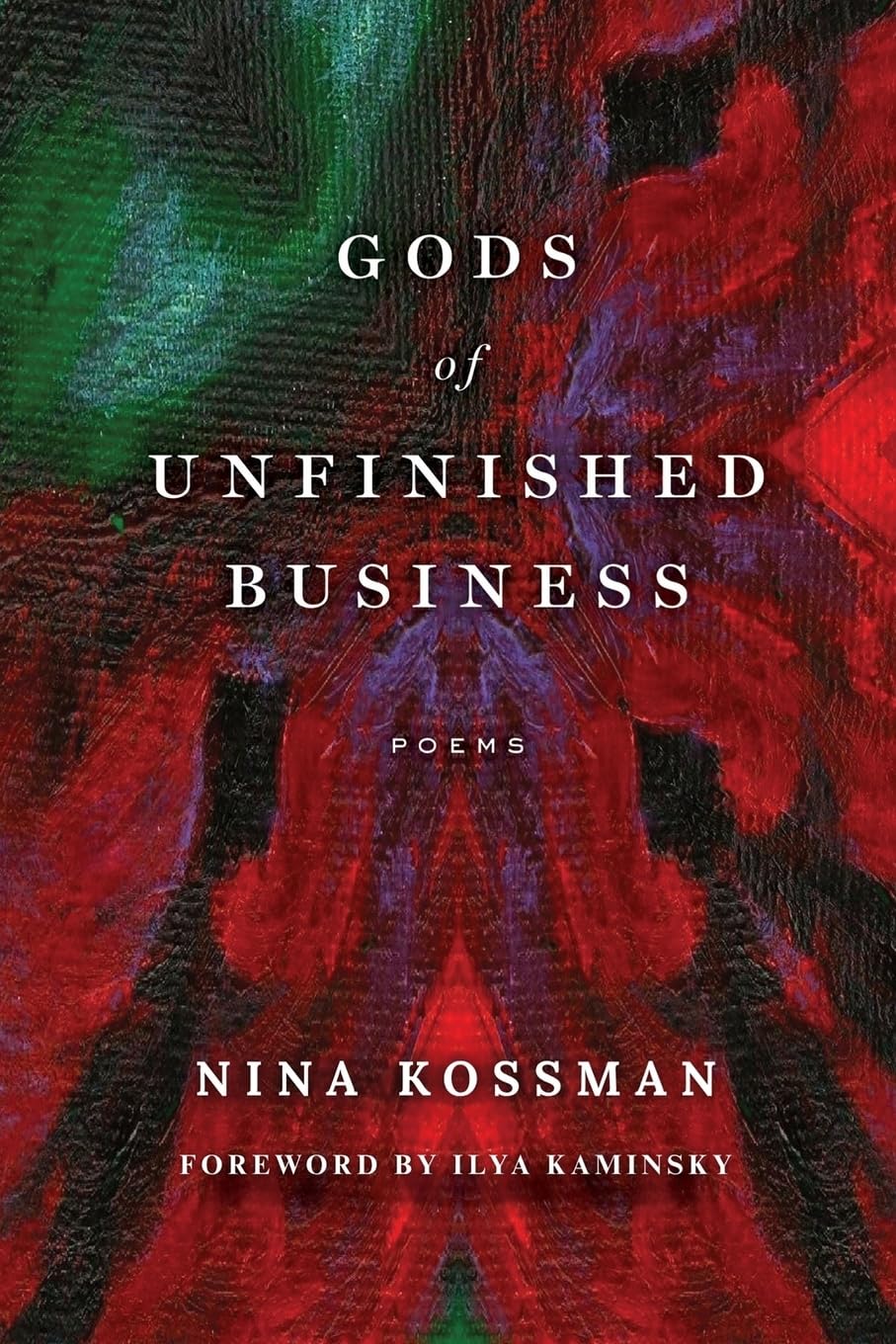ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОТРАЖЕНИЯ В ЗЕРКАЛАХ
Мой разум создает множество зеркал. В них отражаются сцены моего прошлого. Люди, здания и предметы, отраженные в них, очищены от ссора и серости. Более того, они предстают более живыми, более убедительным, чем образы настоящего. Я не контролирую зеркала. Я не могу приказать им появиться или исчезнуть. Они материализуются из воздуха по своей собственной воле. Они, а не мое перо, руководят воспоминаниями.
А вот и я, в первом зеркале, сижу за обеденным столом, завтракаю. Я маленький мальчик, мне четыре.
Тонкие волосы на моей голове обрамляют уши. Волосы светлые, почти белые. У меня узкое, длинное лицо и бесформенный нос, рот сложен в полуулыбку, глаза голубые. Я выгляжу точно так же, как на черно-белых снимках, сделанных моими родителями в те годы. На мне белая футболка, светло-коричневые короткие брюки, серые носки и темно-коричневые туфли. Стул, на котором я сижу, слишком высок для меня. Мои ноги свисают высоко над холодными каменными плитами кухонного пола, а подбородок едва возвышается над столом. Моя левая рука лежит на столе, а правая держит серебряную ложку. На столе, под моим подбородком, стоит белая миска. Она наполовину наполнена порцией хлопьев “Kellogg’s”, размоченных в лужице молока. Я опускаю голову, открываю рот и кладу на язык ложку пропитанных молоком желтых кукурузных хлопьев. Я чувствую, как они проходят из моего горла вниз, пока не попадают в живот.
Сидя за столом, я оглядываю комнату. Мама стоит спиной к нашей черно-серебристой плите и молча наблюдает за мной. Ее светло-каштановые волосы завиваются над ушами и падают на плечи, голубые глаза сияют, как стеклянные шарики у меня в детской. На ее лице отражаются доброта, дружелюбие, спокойствие, сила духа и теплота ее нежного сердца. На ней длинное платье, которое закрывает щиколотки, поэтому трудно разглядеть ее туфли. Ясно, что моя мама делает прическу в парикмахерской, но эта прическа отнюдь не шлем, как часто называют такие прически; она больше похожи на свободную шляпку.
— Где Эрик? — спрашиваю я о брате, который, как я знаю теперь, но не знал тогда, на три года старше меня.
– О, ты всегда это спрашиваешь, — говорит мама, – он в школе.
– Что такое школа? – спрашиваю я.
– Большое здание с детской площадкой. Дети ходят туда учиться, — объясняет мама, – ты тоже будешь ходить в школу, когда будешь постарше.
– Почему? — спрашиваю я, заинтересованный детской площадкой, но не большим зданием.
– Потому что, как и всем детям, тебе придется научиться читать и писать, решать задачи, знать историю и географию, рисовать, лепить из глины и пластилина, — отвечает мама.
Моя мама взрослая. Получив ответ на вопрос, она не задает его снова. Я четырехлетний мальчик. Для меня существоует только “сейчас”, настоящий момент. Вчера и завтра ничего для меня не значат. Только сейчас меня беспокоит. Так что если в этот момент я завтракал один, я хотел знать, почему. Когда я спрашивал маму, где мой брат, мой вопрос был также нов для меня, как луч света в окне каждое утро. Я испытывал мамино терпение, но она, тем не менее, всегда отвечала на мои вопросы.
Я выдерживаю паузу, кладу ложку на остатки молочно-желтой каши кукурузных хлопьев на дне миски. Вдруг в окне я вижу отца, стоящего на сером тротуаре нашего маленького заднего двора. В его правой руке черная рукоятка молотка. Он опускает темно-серебряную головку молотка на шляпку гвоздя и гвоздь с громким стуком вонзается в кусок дерева. Отец выглядит довольным: он улыбается, почти смеется, кожа на его лице оживает, переливаясь красками здоровья. Его волосы и брови кажутся более черными и густыми, чем обычно, его глаза – голубее, ярче, выразительнее. Он ударяет молотком по шляпке другого гвоздя, и тот входит в дерево с еще более громким стуком. Этим утром мой отец – Ной, строящий ковчег у нас во дворе. К счастью, наводнения так и не произошло. Но только пережив наводнение можно увидеть голубя, возвращающегося с оливковым листом в клюве, а затем и радугу в небе над спокойными, синими водами.
Каждый удар молотка по наковальне отзывается у меня в шее; каждому удару вторит мой содрогающийся позвоночник. Он похож на стебель, прикрепленный к луковице мозга. Удары молотка оглушают мой мозг и я начинаю бояться, что он взорвется. В коротких паузах между ударами чувствуется напряжение в воздухе, будто скоро лопнет натянутая до предела струна.
– Что он делает? — спрашиваю я, на мгновение опуская ложку в миску.
– Он делает шкаф, — говорит мне мама с легкой улыбкой, – ты увидишь. Это сюрприз.
Я склоняю подбородок над белой миской и молча заканчиваю завтрак. Тихий мальчик, который стал тихим мужчиной.
Я родился интровертом, но тогда я этого ещё не знал. Моё сознание опустошается. Я опускаю голову и концентрируюсь на слове «шкаф». Это новое слово. Мне нравится его звучание и сила. Позже это слово понравится мне ещё больше. Оно рифмуется с жираф, прав, граф и рукав.
Потом я стоял на кухонном полу и смотрел, как мама перебирает на столе монеты и бросает их в сумочку. Среди пенни и другой мелочи был фартинг. Я пристально рассматривал крапивника, изображенного на монете. Мне нравилось смотреть на него. Тогда мне было ещё неизвестно, что крапивник – самая маленькая птичка, обнаруженная в моей стране, и что изображена она на самой мелкой монете. Чем больше я всматривался в крапивника, тем более живым он казался. Я чувствовал, что если буду смотреть на него достаточно долго, он запоет для меня.
Фартинг, как я потом узнал, перестал быть законным платежным средством 31 декабря 1960 года. По полкроне, шиллингу или двенадцатигранной трехпенсовой монете я не скучаю, но фартинга мне не хватает.