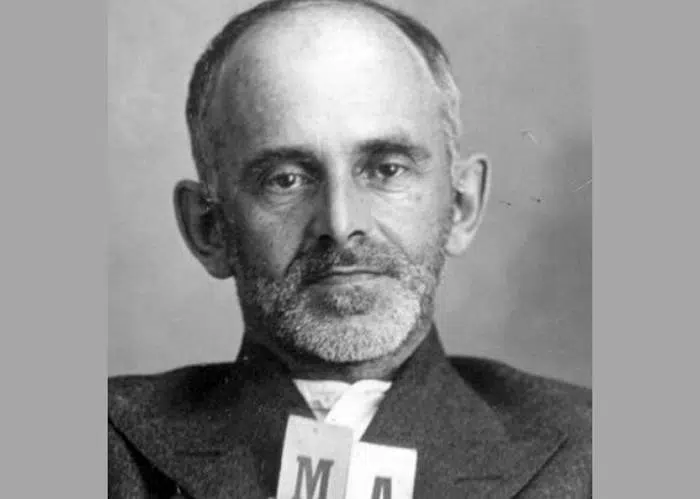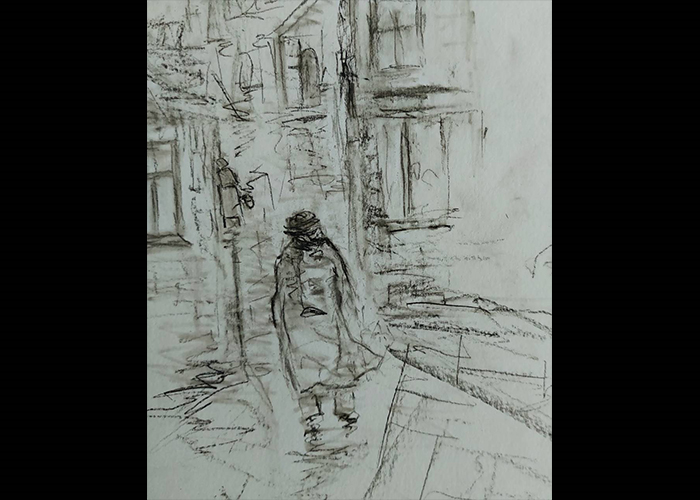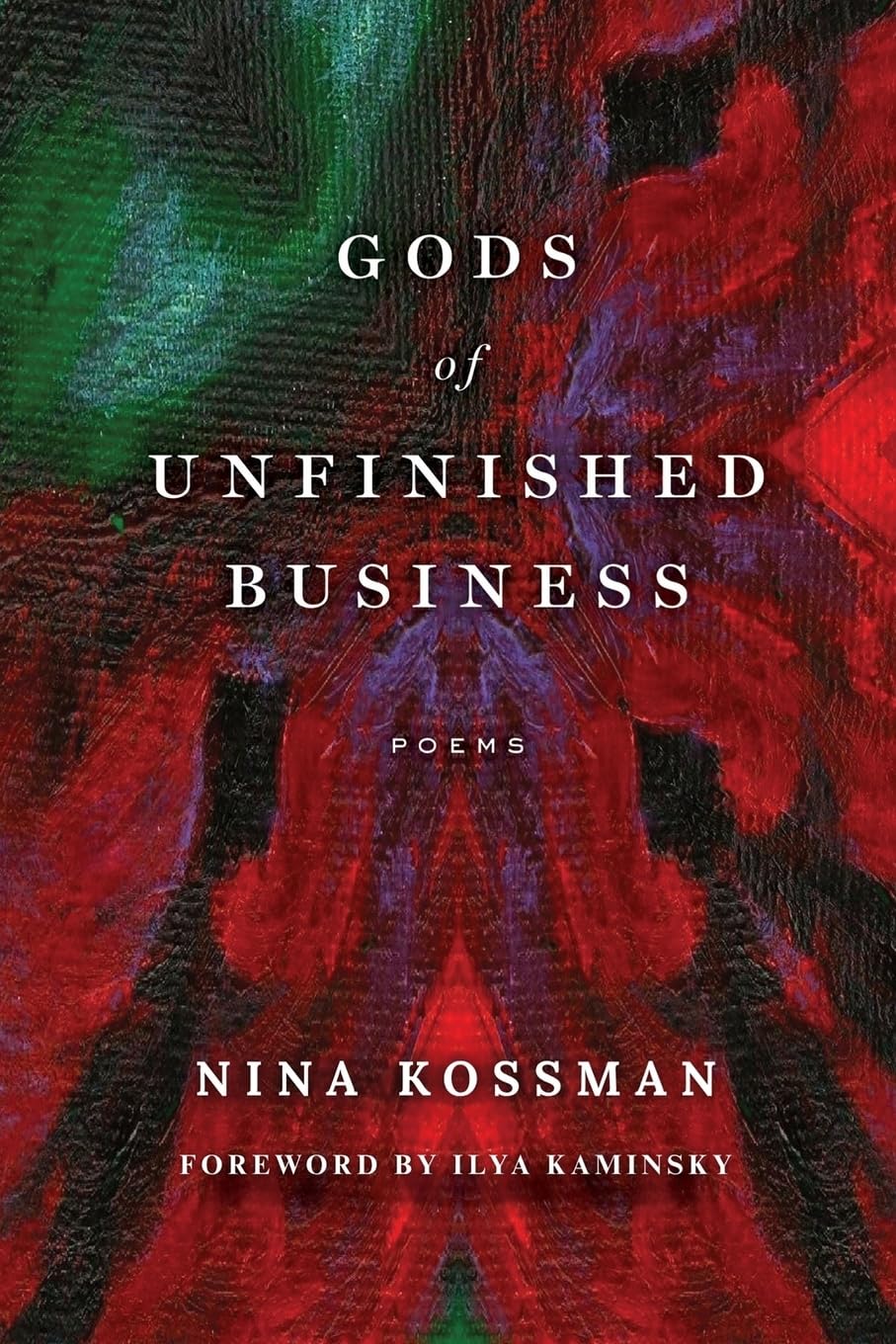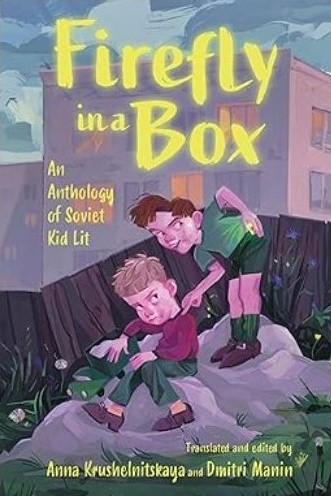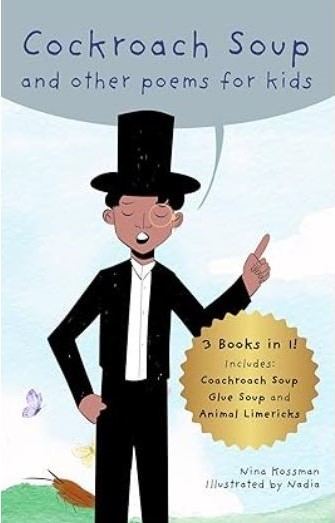За два часа до заката мы пришли на пляж и увидели, что где-то в его середине, под самым обрывом, стоит, прислонившись к камням, закутанный в оранжевые одежды человек в чалме и с длинной чёрной бородой.
В принципе, он стоял на нашем месте, но мы отошли от него на безопасное расстояние и там уже разложили свои вещи и покрывала.
— Что-то мне не захотелось рядом с ним сидеть, — сказал Леван, — Какой-то он лукавый, этот садху…
Мы присмотрелись и заметили, что лицо его тоже было перебинтовано, как и голова, он только сверкал по сторонам своими чёрными глазищами, и я подумал, что какой-нибудь старик, приехавший сегодня на индийский праздник из другого штата, забрёл сюда, чтобы посмотреть на белых женщин – индусы, они, вообще, очень любопытные.
— Он пришёл сюда, чтобы выбрать себе ученика, — усмехнулся Леван, — Или, скорее всего, ученицу… Сейчас к нему кто-нибудь подкатит, это только дело времени.
Я разделся, пошёл к океану и заметил, что за неделю моего пребывания берег стал уже раза в полтора больше, а прибой принёс ближе ту отмель, с которой можно теперь с меньшим трудом дойти до подводного обрыва, где зарождаются самые огромные и опасные волны.
С десяток человек уже стояли там по грудь и по пояс в воде, пытаясь оседлать самую высокую волну или, в крайнем случае, занырнуть под её пенный гребень. А когда вода затихала и отходила от берега перед новым прибоем – иногда это было очень вдумчиво и долго — я ощущал рокот океана, словно мерное дыхание древнего и огромного существа.
Когда я вылез из воды, неподалёку от садху уже деловито раздевалась какая-то одинокая блондинка крепкого телосложения.
— Вот видишь, — улыбаясь, объяснил мне Леван, — Одна уже клюнула. И смотри, как он возбудился!
— Ну конечно, – ответил я, — Там, откуда он приехал, такие не водятся!
Садху тем временем отошёл от камней, сел на песок в позе лотоса, а когда блондинка пошла купаться, снова встал и начал перематывать свой сложный головной убор.
— Да, он в ударе!
Потом этот человек достал из складок одежды то ли сигарету, то ли скрученную из бумаги цигарку и принялся пускать клубы дыма.
— А что это он курит такое? – поинтересовался я.
— Наверно, тоже самое, что и мы. Представляешь, если он сейчас подойдёт к тебе и скажет: «Я выбираю тебя своим учеником! Следуй за мной!» И я тебя больше никогда не увижу!
— Ну почему, увидишь лет через пятнадцать, когда у меня будет такая же борода. Но только я тебя уже не узнаю.
Впрочем, этому садху тем вечером не повезло — самодостаточные посетители европейского пляжа старательно не обращали на него внимания, поэтому на закате он ушёл куда-то вдоль берега, но мы ещё раз успели увидеть его бредущим по Клифу, когда сидели на втором этаже веранды полюбившегося нам ресторана.
— Федя, он нас преследует, он следит за нами! Прячься под стол, пока он тебя не заметил! – куражился Леван, — Смотри, он у официанта про нас интересуется: Где эти странные ребята, один маленький, а другой высокий, которые час назад были на пляже?!
Мы немного посмеялись, а тот самый загашенный официант, который весь вечер приносил нам ром с колой и стрелял у нас сигареты, неожиданно сказал, что он шесть лет прожил в Японии и теперь смотрит на мир с шести сторон: Спереди, сзади, слева, справа, сверху и снизу. При этом глаза его так сияли, будто он нёс нам некое откровение.
— Да они тут все обкуренные, такой у них стиль работы, — подытожил Леван.
В тот вечер начались очень красивые грозы – остаточные проявления идущего с севера муссона или — как его здесь называют — монсум. Когда дождь слегка утихал, мы меняли кафе, пока не очутились в самом первом, русском заведении, где было много молодых мам и детей. Из-за погоды они не могли вернуться домой и возбуждённые дети, которым уже давно пора было спать, с изумлением смотрели на бьющие далеко в океане разноцветные молнии.
Электричество вырубалось каждые минут десять, и весь Клиф оставался без света, за исключением пары ресторанов со своим генератором. Тогда мы включали фонарики, а официанты зажигали на столах свечи, защищённые от ветра стеклянными колбами, формой совпадавшими со стеклом русских керосиновых ламп.
Мы ощущали себя как в театральной ложе, где даёт представление сама природа, а я почему-то вспоминал русских путешественников девятнадцатого века, которые попадали здесь в шторма далеко не в таких комфортных условиях и вряд ли могли оценить всю красоту этого зрелища.
А на следующий вечер, опять гуляя по Клифу, я увидел идущего нам навстречу вчерашнего Садху. Проходя мимо, я посмотрел ему в глаза, а он стрельнул по мне взглядом и отвел свои в сторону. Глаза у него были совсем молодые, подведённые чем-то чёрным, и я понял, что его внешний вид – всего лишь одна из декораций происходящего вокруг действа.
— Слушай, так это же ряженый садху! – сказал я Левану, когда мы сидели в Тибетском ресторане, — Он гораздо младше меня! Только неизвестно, где он бороду себе отрастил!
— А может и борода у него не настоящая.
По океану, теперь уже со стороны юга, к нам неспешно приближалась тёмная грозовая туча и в её сердце сверкали маленькие молнии — каждое мгновение их появлялось одновременно семь или восемь, а в пятидесяти метрах от нас какой-то индус залез на обмотанный электропроводами столб, пытаясь отрегулировать что-то в этом хаотичном переплетении рукотворных лиан.
— Ну смотри, вот куда он полез в самый последний момент?! – сокрушался Леван, — Не дай бог начнётся сейчас! Впрочем, они тут все такие и если бы не было туристов — вообще бы ничего не трогали, оставили всё как есть и спокойно себе жили дальше.
И тогда я подумал о том, что главным действующим лицом в этом спонтанном театре всё-таки является природа, а не человек и, в какие бы ты одежды не наряжался и о чём бы ты не думал, то всё равно останешься лишь её отсветом, а когда электричество в очередной раз погаснет — то только тенью от свечи, отражённой в стакане имбирного чая.