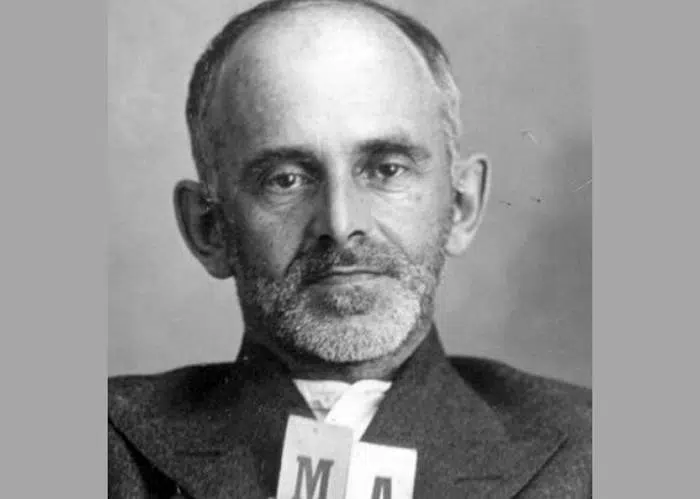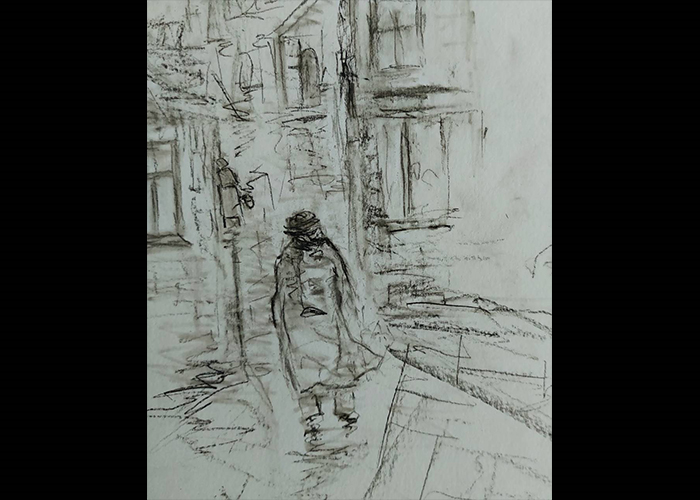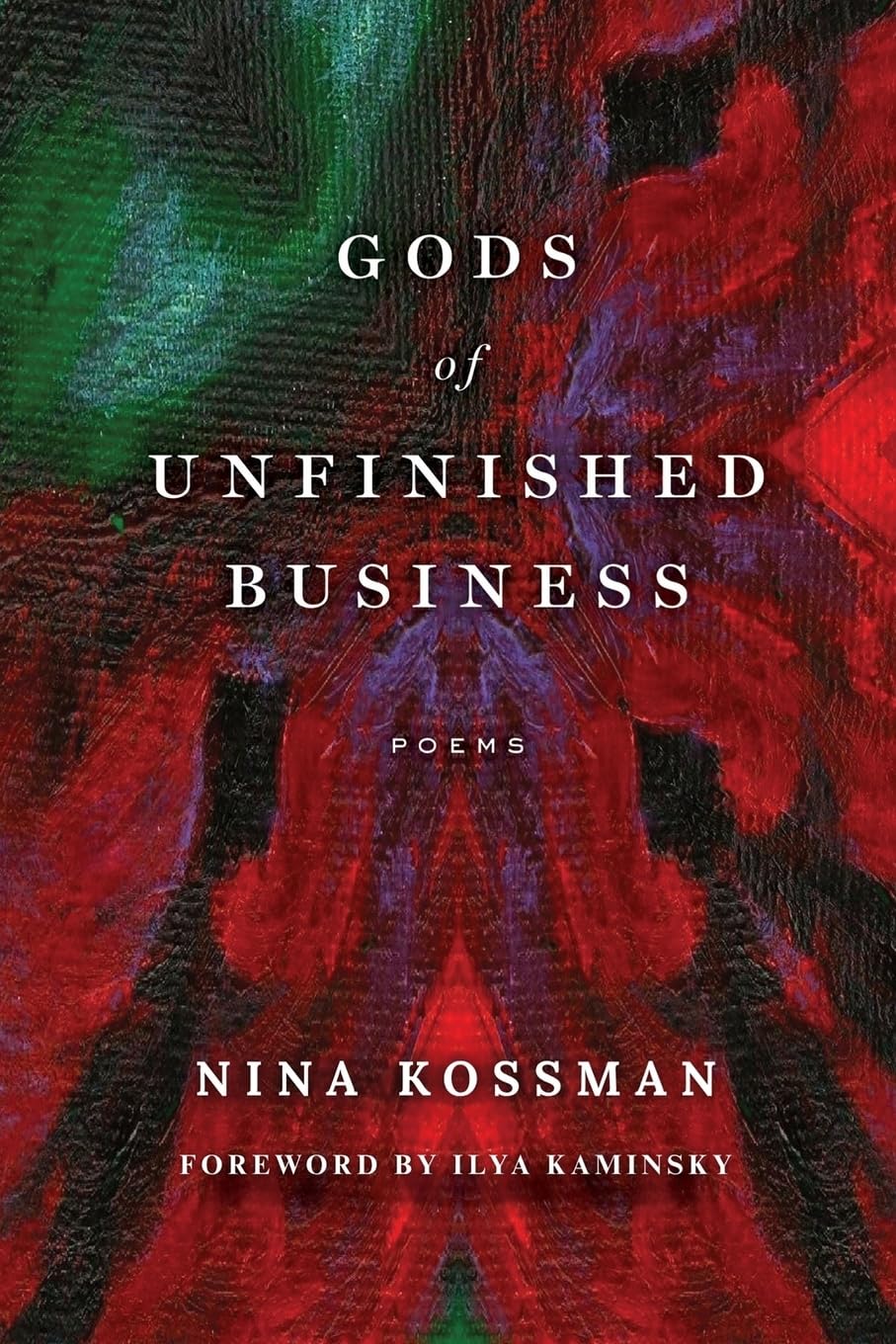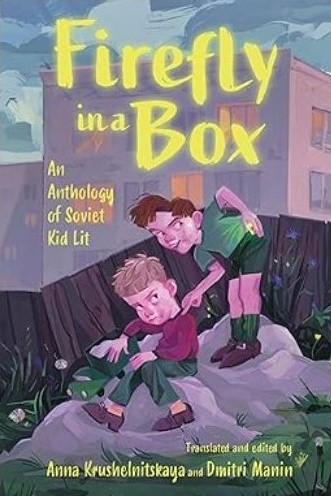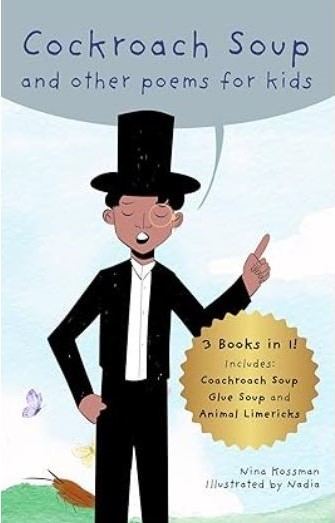Дима Андронов, любезно принимавший меня в Нью-Йорке, вез меня по трассе I-95 из города Вашингтона, где мы побывали с удивительно неофициальным визитом. После клокочущего высотного Нью-Йорка американская столица казалась глубоко провинциальным городом, примерно каким казался бы Тамбов после Москвы. Предместья города составляли гетто, преимущественно негритянские, которые состояли из кварталов опрятных каменных двухэтажных домиков. У нас подобные кварталы называются загородными элитными поселками.
В центре американской столицы располагались правительственные здания, музеи и мемориалы. Все было примерно как в Кремле, только без кремлевской стены вокруг и с присущим американцам гигантизмом. Мемориал Линкольна представлял из себя здание, окруженное двумя рядами дорических колонн, внутри которого находилась гигантская беломраморная статуя сидящего президента. Он напоминал знаменитую статую Зевса в Олимпии. Здание Сената, тоже с беломраморными колоннами и гигантским куполом, подозрительно смахивало на увеличенный собор Святого Петра. Говорят, здешняя столовая славилась своим отменным бобовым супом, но писатель Юрий Рытхэу не нашел в нем ничего особенного. На фоне всего этого циклопического религиозно-архитектурного плюрализма Белый дом выглядел на редкость скромно и атеистично. Преисполненный высокими чувствами, прямо перед воротами Белого дома я вручил Диме памятный значок за укрепление русско-американских культурных связей. Значок напоминал по форме небольшую медаль. На нем было написано: «Чемпионат СССР по хоккею. 1975-76».
Отель, где мы остановились, мне понравился больше всего, увиденного в Вашингтоне. Бронзовые краны на умывальниках, деревянные письменные столы с точеными ножками, окна, открывающиеся движением рамы вверх и неизменная Библия в телефонной тумбочке. Все было так, как в фильмах про гангстеров 30-х годов. Оставив вещи, мы пошли в аптеку за зубными щетками и в «другую аптеку», за коньяком. Никогда не мог понять, почему американцы не возят с собой зубные щетки в специальных чехлах, но каждый раз, приезжая на новое место, бегут за ними в аптеку. Когда в детстве мы ездили в пионерский лагерь, мы брали с собой не только зубную щетку, но и мыло в мыльнице.
Дима и служащие отеля трижды повторили мне и на русском, и том языке, который в Америке считается английским, что в номерах курить нельзя, это грозит крупным штрафом. Так что глубоким вечером, прежде, чем лечь спать, я оставил свой номер, спустился на лифте и вышел на ступеньки отеля, чтобы выкурить свою последнюю сигарету. Курение я сопроводил большим глотком из бутылки, после чего меня неудержимо потянуло прогуляться по ночному Вашингтону. Ну хотя бы обойти вокруг квартала. Я завернул за угол, потом еще куда-то за угол, потом прошелся еще по какой-то улице… Бело-синяя американская луна светила мне то в лицо, то в затылок. За все время я не встретил ни единого человека. Я выкурил еще одну последнюю сигарету, приложился к бутылке и понял, что заблудился. Видел бы коммунист Туретаев, замполит части, в которой я служил, как я блуждаю в лунном свете по столице мирового империализма, с потерянной физиономией, с сигаретой в одной руке и бутылкой коньяку в другой! Я долго брел в одиночестве вдоль незнакомых улиц. Отель нашелся как раз тогда, когда оставался один глоток. Я его выпил, выкурил еще одну последнюю сигарету, потом вошел в холл, ловко увернулся от входной двери, лучезарно улыбнулся чернокожей девушке за стойкой, с первой попытки попал в лифт и отправился спать.
Итак, мы ехали по трассе I-95, и оказалось, что американский хайвэй –это довольно скучное место. Останавливаться можно только на автозаправочных станциях, расположенных в сотне-двух километров друг от друга, а о том, чтобы съехать на обочину, остановить машину и пойти пособирать цветочки в ближайшем лесу, а тем более о пикнике на обочине не стоило и думать. Да и вместо обочины всю дорогу тянулся внушительный отбойник.
Многажды переслушав «Queen of the Highway» Джима Моррисона, я начал воображать, как звучал бы перевод поэмы «Девиз верного ума», написанной третьим патриархом дзен-буддизма Сосаном, если бы перевод делал хиппи. Первая строка – «Совершенный путь не знает трудностей» — звучала бы как «Крутой хайвэй не знает косяков», блюзовый такой мотивчик, но дальше дело у меня застопорилось. К счастью, Дима свернул с трассы в сторону Сэнди-хук, где располагались атлантические пляжи, чтобы я смог осуществить свою мечту – искупаться в Атлантическом океане.
Припарковавшись, Дима объяснил мне, что купаться в плавках здесь нельзя, поскольку это может быть сочтено сексуальным домогательством, и достал из багажника тряпичные шорты ниже колен, расцветка веселенькая. Переодеваться придется прямо в машине, поскольку если кто-то увидит, это тоже будет сочтено домогательством, а домогательство по американским законам – очень серьезная статья. До дела Харви Вайнштейна тогда еще не дошло, но в воздухе явственно ощущался запах приближающейся сексуальной контрреволюции. Мы по очереди переоделись на заднем сидении, взяли полотенца и направились по длинной галечной дорожке в сторону пляжа. Шорты, предназначенные для меня, оказались на несколько размеров больше, но я обнаружил, что если посильнее надуть живот, они держатся на талии без помощи рук.
Возможно, не стоило бы делиться такими пикантными подробностями, но в данном случае они составляют саму суть повествования. Я думал о том, как это делается в моем родном городе Екатеринбурге, скажем, не берегу озера Шарташ, куда летом приезжают купаться сотни горожан. Чтобы переодеться, достаточно зайти за ближайшие кусты, а в крайнем случае – обмотать бедра полотенцем, снять мокрое, надеть сухое. Женщинам, конечно, сложнее, но они как-то умеют справляться. Они вообще со всем как-то умеют справляться… Мы прошли мимо кабинок для переодевания, в которые нельзя было войти, потому что купальный сезон официально уже закончился.
Отделенный от остальной суши густым колючим кустарником, пляж был покрыт песком, местами – галькой. Неподалеку от места, где мы расположились, на песке лежала толстая большая гниющая рыба. В длину и в ширину она имела примерно одинаковый размер. Вода в океане имела грязно-серый цвет. Вдалеке, почти у горизонта, в сторону Нью-Йорка двигался большой грязно-серый сухогруз. Поодаль располагались редкие группы купальщиков. Все это нимало не походило на рекламные картинки с Атлантическим океаном, где обязательно присутствовали лазурные воды, пальмы, красотки в бикини и парусные яхты. Здесь мы имели серый танкер, гниющую рыбу и мужиков в дурацких шортах.
Тем не менее для реализации мечты мне следовало выполнить программу. Я надул живот и смело вошел в метровые волны, которые тут же отнесли меня метров на двадцать от берега. Я сделал гребок правой рукой и вдруг понял, что во время плавания необходимо чередовать последовательно вдох и выдох, а с каждым выдохом поток воды так и норовит смыть с меня злосчастные шорты в набежавшую, так сказать, волну. Мне пришлось схватиться за них руками. Оказалось, что я могу либо плыть, рискуя потерять шорты, либо держать их руками, бултыхаясь и отплевываясь в двадцати метрах от берега. То есть передо мной встал непростой выбор: или утонуть в грязно-серой воде океана своей мечты, либо выбраться на берег нагишом, что было бы несомненным домогательством к торчащим на пляже купальщикам, и отправиться в государственную тюрьму штата Нью-Джерси в Трентон.
Я не могу рассказать, как выбрался на берег. Помню только, что я держал чертовы шорты двумя руками на талии, и воды в них было больше, чем могло бы впитать ватное одеяло.
Несколько дней спустя в самом центре Манхэттена, где-то на Пятой авеню мое внимание привлекла веселая толпа в пару сотен человек. Протолкавшись в первые ряды, я увидел человека, на котором из одежды были одни только трусы-плавки, да еще сумка-пояс, какие любили любили носить продавцы-лоточники в начале 90-х годов. Поодаль добродушно посмеивалась парочка полицейских. Изумлению моему не было предела. Конечно, я видел на Таймс-сквер девиц в ярких глянцевых купальниках, мексиканских шляпах и с гитарами, но они напоминали, скорее, артисток цирка, а этот был похож на хиппи, только что вылезшего из постели. У него была длинная борода, волосы до плеч, и он постоянно кричал «Love! Love!» и что-то еще, возможно «God is love!», при этом он то тут, то там подходил к толпе, и толпа с веселым испугом шарахалась. Наконец, среди толпы нашелся смельчак, который не стал шарахаться, а дружелюбно выставил кулачок на уровне головы. Бородатый чувак радостно ударил его кулачком в кулачок – типа «мир, дружба, жвачка» — закричал «Love! Love!» и просто зашелся в экстазе. В толпе послышались аплодисменты.
Лет двадцать назад это показалось бы мне забавным – скакать в одних трусах по Пятой авеню и эпатировать туристов со всего света радостными воплями. Но я сразу вспомнил свои купальные мучения на Сэнди-Хук и суровое американское законодательство. Что говорить, даже в Метрополитэн-опере Дима долго мне объяснял, что проходить на свое место следует не лицом к сидящим, как это делают воспитанные люди в Екатеринбурге, а только спиной, иначе это будет сочтено… ну, вы уже догадались. Кстати, мы слушали «Богему», и постановка была на такую широкую ногу, что на Рождество во втором действии на сцену выходило не меньше сотни хористов. Я даже подумал, что раз тут все так шикарно и масштабно, то и Мими, возможно, не умрет в четвертом действии, а наоборот, выздоровеет ко всеобщей радости, но этого, увы, не произошло.
Подумав обо всем этом, я просто слегка вышел из толпы, поднял кулачок, и патлатый хиппи радостно подскочил ко мне, чтобы совершить свое странное приветствие.
— Лав! Лав! Ура-а-а! – закричал я, и чувак тоже закричал «Love!», воздев руки к небу. Толпа рукоплескала.
Вечером того же дня я потребовал у Димы объяснений. Я был настроен серьезно, как секретарь комсомольской организации. Почему на пляже, где сама логика требует минимума одежды, нужно находиться в громоздких шортах, которые так и норовят тебя утопить, в то время как на центральной улице города, где приличия требуют хотя бы шортов и футболки, можно бегать в одних трусах? И если по американским законам необходимо кричать «Ах, любовь, любовь», чтобы иметь право являть себя в плавках urbi et orbi, я мог бы кричать это на пляже, чтобы иметь возможность искупаться более естественным для человека разумного способом. Однако Дима, будучи высокопрофессиональным юристом, разъяснил мне, что чувак на Пятой авеню по американским законам не относится к тому, о чем я подумал, а относится, наоборот, к свободе слова, поскольку его внешний вид и громкие возгласы являются выражением его гражданской позиции, а свободу слова как раз уместно проявлять в центре Нью-Йорка, и неуместно на пляже. А уж если бы я на пляже подбегал к людям с криками «Любовь, любовь!» — это уж совершенно точно было бы расценено как… ну, вы, конечно, уже догадались.
Вернувшись в Екатеринбург, я поехал на берег озера Шарташ посмотреть, как обстоят дела со свободой слова на местном пляже. Там никого не было. Купальный сезон был давно закончен. На противоположном берегу озера на фоне сплошного массива зеленых сосен трепетали, теряя листья, желтые березы. Порывы прохладного ветра поднимали рябь на серо-зеленой поверхности воды, отражавшей рваные белые облака. Собственно это был и не пляж вовсе, а просто травянистые поляны, местами спускавшиеся к самой воде. Я долго брел вдоль берега по тропинке, то углублявшейся в кустарник, то снова выводившей к поверхности озера. Наконец, я увидел двух мужиков, которые сидели на коряге и пили водку. Прямо на траве спала тетка в синей вязаной кофте. Один из мужиков недобро посмотрел на меня и спросил:
— Курево есть?
— Ну, наливай, — ответил я, доставая из кармана пачку сигарет.
Он плеснул мне в пластиковый стаканчик, который, по-видимому, они подобрали тут же на берегу. Я поднял стакан, посмотрел на хмурых мужиков и спящую тетку, на белые облака и зеленые сосны, отражавшиеся в бликующей воде, и сказал:
— Love! Любовь!
…И немедленно выпил.