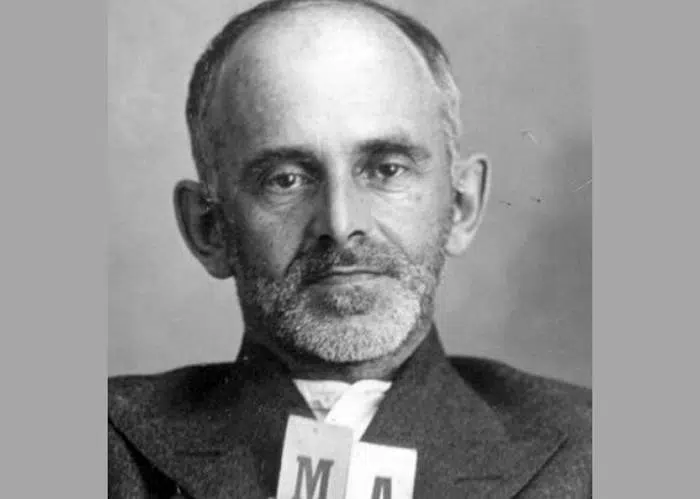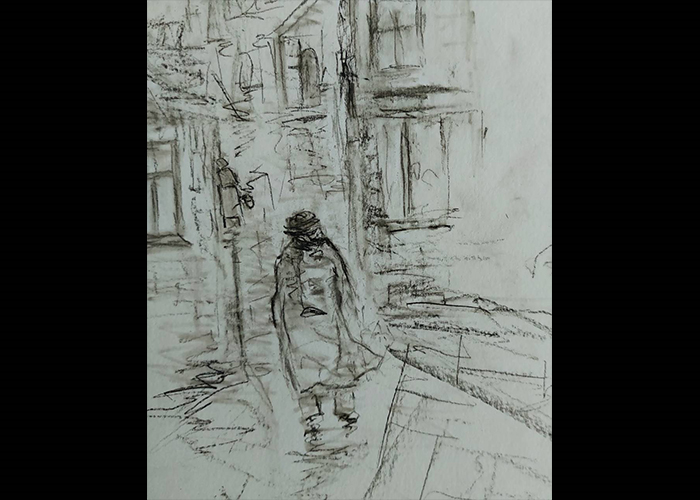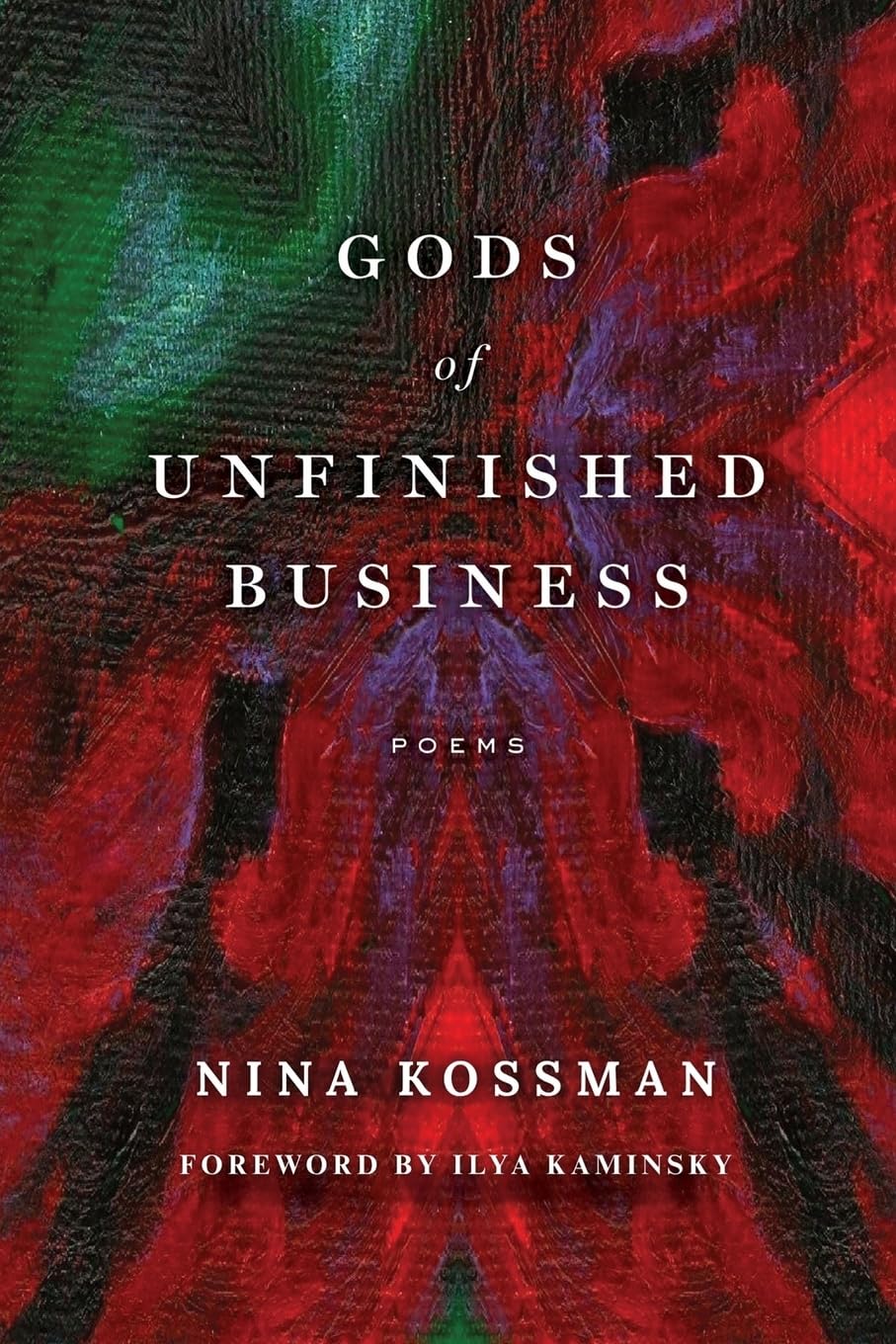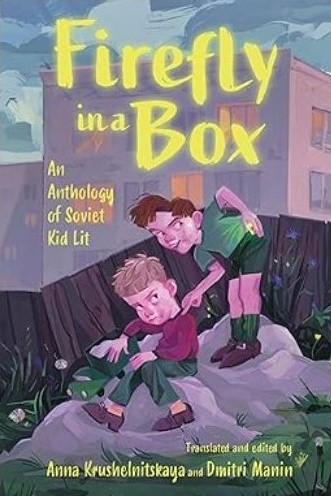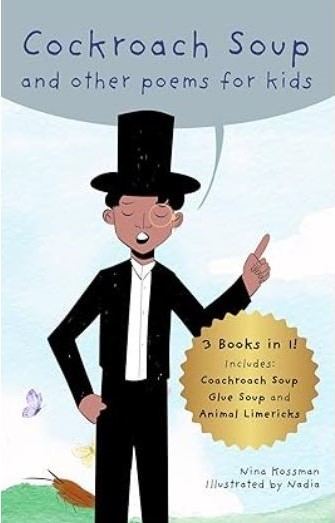ФРАГМЕНТ 1
Часть II
Глава 1
Ветер завивал на дорожках снежные клубочки, и казалось, по Новодевичьему кладбищу бегают какие-то маленькие существа. Но от этого было не страшно, а наоборот, спокойно. Как будто здесь, на кладбище, оставалось неизменным то, что везде изменилось необратимо.
Какая связь между мартовскими метельными вихрями и неизменностью, Ада объяснить не смогла бы. Не говоря уже о том, что рассуждать о неизменности на кладбище – пошлость несусветная.
Людей на похороны собралось много, и по всему, что она знала о Таше, это ее не удивило. Их дружба не была близкой и даже крепкой в общем-то не была, но каким-то необъяснимым образом Таша возникала в ее жизни хоть и редко, но всегда в моменты значительные и поворотные. А последний из таких моментов оказался не поворотным даже – от него просто зависела Адина жизнь.
Можно было предположить, что и в жизни других происходило в связи с Ташей то же самое или нечто подобное. Потому Ада и не удивилась, что так много людей пришло проститься. Хотя, может быть, дело просто в том, что если ты всю жизнь прожил в городе, где до этого жили твои родители, деды и, вероятно, прадеды, и все они были здесь заметными людьми, то при этом образовалось так много человеческих связей, прочных и долгих, мимолетных и кратких, что они пронизали не только твою личную жизнь, но буквально весь этот город, всю огромную и мощную Москву.
Эта сеть и была теперь раскинута на дорожках Новодевичьего.
На кладбище приехали после отпевания, происходившего в университетской церкви святой Татианы. Таша была религиозна — Ада однажды с удивлением узнала, что она соблюдает даже длинный русский Великий пост. При ее насмешливости, резкости и нескрываемой прагматичности это выглядело странным. Но Ада всегда считала, что религиозное проявление Ташиной парадоксальной натуры хотя и несколько демонстративно, однако искренне.
Немецкую церковную архитектуру, как и все немецкое, Таша считала образцом разумного устройства жизни и, если оказывалась в Кельне на Рождество, всегда проходилась по всем двенадцати романским церквям, изучая ковчеги, выставленные к празднику возле каждой. Но молиться ходила только в православные храмы – говорила, в католических не испытывает того, что необходимо для молитвы. Ада не считала, что возможность молиться зависит от чего-то внешнего, тем более от помещения, в котором это происходит. Но она и выросла в семье, в которой вера почти не имела обрядовых форм и о ней вообще не принято было говорить. Таша же рассказывала, что ее бабушка пришла к вере в русской катакомбной церкви, прихожане которой преследовались как диссиденты, и с тех пор в их семье все связанное с религией осталось незыблемым. Странно было бы Аде выносить об этом какое-либо суждение.
В церкви, в мерцании золотого убранства, в трепете свечей, было душно, тесно, и ни единый человек, кроме Ады, не надел маску, хотя пандемия не была еще закончена. Она вздрагивала от поминутного кашля рядом – сейчас только ковида ей недоставало! – и рада была поскорее оказаться на воздухе, в свежей мартовской метели, завеивающей и церковь, и кремлевскую стену напротив.
В автобусе, отвозившем из церкви на кладбище, Ада вспомнила, что Сталина тоже хоронили в марте, и день был такой же сумрачный, и тучи так же низко нависали над Кремлем. Она видела это в кинохронике, которую снимал американский дипломат. Странно, что пришли в голову те похороны. Хотя, может быть, и не странно: непрерыв-ность московской жизни стала теперь для нее такой зримой, что проявления этой непрерывности мерещились даже там, где их, может, и не было.
Только на кладбище она смогла подойти к гробу. Однажды они с Ташей ездили в Переделкино, и в доме Пастернака, при взгляде на его посмертную маску, Аду поразило выражение, запечатленное на мертвом лице — глубокой мысли и глубокого же покоя. Таша сказала тогда, что таким выражением и должно быть отмечено присутствие царствия небесного в умершем. Но ее лицо в гробу было точно таким, как при жизни, очень сосредоточенным, и сделалось вдобавок настороженным и чужим. Ада этому удивилась, но потом сочла, что ощущение отчужденности возникло из-за бумажной ленточки на лбу, вероятно, необходимой по православному обряду.
Когда свежий могильный холм сплошь уложили венками и цветами, Ташина сестра сказала:
— Просим Наташеньку помянуть. Автобусы всех отвезут.
На поминки Ада ехать не собиралась. Но вдруг представила, как возвращается в тесноту и пустоту квартиры в Подсосенском, включает компьютер, открывает, злясь на необходимые здесь теперь для этого ухищрения, новостную ленту… От одной мысли об этом ее взяла такая тоска, что даже поминки показались более приемлемым вариантом. По крайней мере не придется провести очередной вечер в одиночестве, сходя с ума от новостей, и вокруг будет много людей, ни один из которых не близок настолько, чтобы говорить ей невыносимые, невозможные, чудовищные слова, которые день за днем говорит сын. То есть говорил, пока еще отвечал на ее звонки.
Идя к автобусу, она открыла в айфоне свое вчерашнее сообщение Феде – оно не было прочитано, и ответа на него не было.
Из окна автобуса Ада увидела, как Ян садится в машину. Он был и на отпевании, и на кладбище, но она не подходила к нему. Зачем бы? Еще раз услышать то, что он уже высказал в первые дни ее приезда? Если слова сына вызвали у нее боль просто физическую, то его слова — только досаду. По сравнению со всем остальным досада была чувством мизерным, но и мизерного саморазрушения не хотелось. Она умела себя от этого защищать – научилась давно, после истории с Доротеей, которая слишком сильно на нее подействовала.
Ада вспомнила, как в год Ташиного гранта в кельнском Институте славистики они сидели однажды вечером вдвоем на кухне в Ниппесе, пили обожаемый Ташей кёльш, Ян еще не вернулся с работы, седло барашка запекалось к ужину, она почему-то вспомнила, как вот на этой самой кухне под этой самой лампой скандалила Дороти, и рассказала об этом Таше, а та, выслушав с обычным своим живым интересом ко всему житейскому, вынесла вердикт:
— А тебе теперь можно вообще не обращать внимания на манипуляторов.
— Почему? – удивилась Ада.
— Так ты же счастливый билетик вытянула, — в свою очередь удивилась Таша.
— Какой?
Ада все-таки не понимала, что она имеет в виду.
— Господи, да Яна же! – воскликнула та. – Игнорируй теперь всех и всё. Вообще всё. Вот ты, например, начисто лишена обаяния. Не обижаешься? — уточнила она.
Ада не обижалась. — Ну такой, знаешь, женской этой милоты. Я, кстати, тоже. Но, в отличие от меня, тебе на это можно вообще плевать. Если он тебя полюбил такую, то не все ли равно, есть у тебя обаяние или нет? Можешь идти по жизни напролом.
Не то чтобы Ада собиралась идти по жизни напролом, но в Таше была приметливость и правдивость, в которых, вопреки ее представлению о себе, обаяние как раз и состояло. Так что, может быть, в этом ее утверждении тоже была некоторая точность. Во всяком случае, Таша всегда говорила только то, что думала. И первые ее слова про Яна были:
— А что за принц Уэльский к нам идет? Вон тот, с двумя подносами?
Это было в университетской мензе. Ян шел через зал, действительно держа в каждой руке по подносу с обеденными наборами для себя и для Ады. Она засмеялась словам этой случайной соседки по столу — некрасивой, с крупными, очень выразительными чертами лица – и ответила:
— Это мой друг. Но он совсем не похож на принца Уэльского.
— По внешности — да, сильно получше будет, — не задержалась с ответом Таша. – Но по сути – чистый принц Уэльский.
Так они познакомились. Это было ровно двадцать лет назад, день в день.
ГЛАВА 2
Поминки были устроены в ресторане, который находился в одном здании с Залом Чайковского. Ада про этот ресторан не знала, только про здешнее же кафе, в которое часто заходила после концертов. В кафе продавались пирожные со свежей земляникой, к которым очень точно подходил русский фразеологизм «ум отъешь». Когда-то она покупала их для себя и для маленького Феди, а Ян уже воздерживался от сладкого.
Оказалось, есть и ресторан с прекрасной грузинской кухней. Пока в него входили, об этой замечательной кухне в сравнении с кухнями других каких-то ресторанов переговаривалась пожилая супружеская пара у Ады за спиной. Безмятежное воодушевление, с которым обсуждались пхали и сациви, показалось ей таким странным и диким, что она хотела сразу же уйти. Но подошла Ташина сестра, сказала:
— Спасибо, что вы пришли, Адочка. Ташенька о вас рассказывала. Жить бы ей да жить, если бы не рак проклятый. Помянем ее.
И уйти сразу после этих слов стало невозможно.
Зал был немаленький, но и людей собралось много, с кладбища почти все приехали сюда. Ада прошла за дальний стол: не хотелось оказаться рядом с Яном, который сел поближе к выходу, видимо, не намереваясь оставаться долго.
Вместе с ней за стол уселась та самая пожилая пара, которая при входе обсуждала прелести грузинской кухни. После того как выпили первый раз не чокаясь за Ташу, они продолжили ту же тему, не громко, но с прежним упоением.
Взглянув на Аду, дама, может быть, о чем-то догадалась по ее окаменевшему лицу.
— Ташенька готовила не очень, но гостей любила созвать, — словно объясняя свое внимание к ресторанным затеям, сказала она. – И здесь, бывало, к столу всё заказывала. У нее когда-то муж был грузин, вы знаете? Она даже в Тбилиси к нему поехала было жить, но, конечно, вскоре вернулась. Никто и не удивился – из Москвы в Грузию, ну это же как-то совсем… Тем более Таша из такой семьи! Ее дедушка в семнадцатом году приехал из Швейцарии вместе с Лениным, прямо в том самом вагоне, Инесса Арманд была подружкой ее бабушки. И вы же видели, вся родня на Новодевичьем. Семья crème de la crème, как французы говорят, знаете?
— Знаю, — машинально ответила Ада.
— Так что какая может быть Грузия! Но они с Вахтангом расстались друзьями, — добавила дама.
— На похороны однако же он не приехал, — заметил ее муж, старомодно благообразный, с золотыми запонками в манжетах.
— Так ведь сложно сейчас, — пожала плечами она. — Прямого самолета нет, и вообще…
— Именно что вообще, — поморщился он. – Всем им не нравится, что мы за себя постояли. – И, заметив недоуменный Адин взгляд, пояснил: — Грузины тоже всегда нас ненавидели.
— А кто еще? — Ада почувствовала, что внутри у нее словно пламя зашевелилось. Не пламя даже, а лишь первый его сполох. – Кто всегда вас ненавидел?
— Да вот выяснилось, что украинцы.
— И как же это выяснилось?
— Так они ведь на нас напали, — сказала дама.
— Украинцы напали на вас?
— Ну а кто же? – Она взглянула на Аду с недоумением, потом повернулась к мужу и объяснила: — Это Ташина подруга. Она немка, не знает, что к чему.
— Я англичанка. Но это неважно.
«Надо уйти, — подумала Ада. — Надо немедленно уйти. Пока не поздно».
Но, думая так, понимала, что уже поздно.
— Не так уж неважно… — протянул муж. – Немцы по крайней мере понимали, что перед нами виноваты, тихо себя вели, хоть тоже те еще штучки, конечно. А англосаксы всегда спали и видели, как бы нас захватить. Вот и пошли войной.
— Это не про вас, конечно, — поспешно добавила его жена. — Но в целом Запад нас поработить хочет, тут двух мнений быть не может.
— Два мнения всегда может быть.
Аду вдруг охватило такое оцепенение, что язык стал еле ворочаться во рту. Но это было и к лучшему: позволяло сохранять видимость спокойствия. Иначе швырнула бы, может, о стенку блюдо с разноцветными пхали, и это было бы еще самое безобидное, что она могла бы сделать.
— Но вы же не будете возражать, что Украину вооружили до зубов? – Муж положил себе на тарелку баклажанные рулеты с орехами. – Вы только посмотрите на этих, с позволения сказать, украинских солдат. Я в интернете видел — форма с иголочки, автоматы, стингеры! Это что, с неба им свалилось? Готовили к нападению на нас. Если б мы не опередили, НАТО уже на Москву шло бы.
— Откуда у вас такие сведения? – с трудом проговорила Ада.
— От нашей разведки, — отрезал муж.
— Пусть так. Но и пусть бы НАТО шло на Москву. — Аде понадобилась вся ее выдержка, чтобы выровнять дыхание. – Тогда никто не оспаривал бы вашего права защищаться.
— Так ведь тогда поздно было бы! — воскликнула дама. – Береженого, как говорится, бог бережет.
— То есть это… — Пламя разгоралось, жгло изнутри, сполохи его были уже перед глазами, слепили, обжигали. — Это в ожидании божьего сбережения вы ударили ракетами по родильной больнице в Мариуполе? Убили ребенка прямо во время родов, потому что вам почудилось, что НАТО собирается напасть на Москву?
— Вот не надо мне про этот роддом! — Дама взвизгнула так, что затих разговор на другом конце стола, где вспоминали, как в детстве вместе с покойной Ташей ходили кататься на ледянке в Александровский сад. — Это же фейк!
— Если хотите, я пришлю вам рассказы свидетелей. И видео.
— Не надо мне ничего присылать! Даже смотреть не буду. Ну вы же современный человек! Не понимаете, что ли? Видео вам любое за пять минут смонтируют как угодно. А свидетелей этих ваших просто подучили. Да это вообще артисты!
— В ЦРУ сидят специалисты по зомбированию. А вам пора уже как-то учиться информационной гигиене, — назидательно добавил муж. — Нельзя же верить каждой глупости, которую в интернетах подают.
Ада почувствовала, что начинает задыхаться. И выровнять дыхание ей больше не удавалось – ее удушье имело не физиологическую природу.
— Вы, Ада, в самом деле странные вещи говорите.
Лицо женщины, которая сидела напротив наискосок и прислушивалась к разговору, было смутно знакомо. Кажется, они мельком встречались однажды у Таши в квартире на Малой Бронной. Но имени этой русоволосой, без капли косметики, похожей на Марину Влади женщины она вспомнить не могла.
— Что же странного я говорю? — задыхаясь, произнесла Ада.
— Ну вот вы — стали бы лично вы стрелять по роддому? Я уверена, что нет. Почему же тогда вы считаете, что наши русские люди на это способны?
Аде показалось, что она сходит с ума. Мозг этой женщины со всем его содержимым, которое та считала логикой, разверзся перед нею как пропасть.
Не дождавшись ответа, красивая женщина добавила:
— И почему вы молчали восемь лет? Когда русских людей убивали в Донбассе? Там же дети гибли, и не какие-то мифические, а реальные дети, с именами и фамилиями. Про Аллею ангелов вам неизвестно? Так погуглите.
«Это похлеще Доротеи», — проплыло в тумане разума.
Имя Доротеи подействовало неожиданным образом – Аду как будто холодной водой облили.
— Мне известно про Аллею ангелов. — Она встала, но так неудачно, что отодвинутый ею стул с грохотом упал. Из-за этого грохота разговоры совсем стихли и все взгляды устремились на нее. – Но мне известно также, что девять лет назад ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где бы то ни было еще в Украине никто не убивал детей. И не собирался убивать. Все ангелы были живы. До тех пор, пока туда не вторглась ваша армия. В другую страну. Вопреки всем нормам права, международного и просто человеческого.
Может быть, надо было сказать что-то еще. Наверное, надо было извиниться перед Ташиной сестрой. Но Ада чувствовала, что если произнесет еще хоть одно слово и услышит еще хоть одно слово в ответ, то сойдет с ума прямо сейчас. Будто вступила на болото, которое, задержись она еще на минуту, поглотит ее навсегда.
— Ах-ах, какой пафос! — услышала она у себя за спиной насмешливый голос русоволосой женщины. – Конечно, когда аргументов нет, что еще остается.
— Вот так они прислушиваются к другому мнению. — Это произнес мужчина с баклажанными рулетами на тарелке. — Русские у них убийцы. Можно подумать, на Западе нет проблем.
Возмущение, охватившее Аду при этих словах, было такого накала, что она приостановилась, почти обернулась… Но весь ее разум, не совсем еще испепеленный яростью, запретил ей это сделать.
Сорвав свое пальто с вешалки у входа, она выбежала из зала.
ФРАГМЕНТ 2
ГЛАВА 2
«Каждый из нас — сын своих дел. Но кто эти «мы», частью которых я могла бы себя назвать? Их нет».
Эта догадка была пугающе ясна и наглядна здесь, на берегу, пустынном настолько, что если бы волны хлестнули чуть сильнее и унесли Ксению в океан, об этом никто никогда не узнал бы.
Чтобы прогнать из головы эту догадку, она прибегла к тому, что всегда ей помогало — к рациональности, но особого рода, связанной с чувствами и основанной на них. Чувства будоражили память, вызывая на ее поверхность события в их точной последовательности, временной и географической.
Что каждый из нас — сын своих дел, она услышала двенадцать лет назад. Двенадцать лет и два месяца назад. Шли с Сергеем по Аль-Джазаиру, Ксения взглянула на возвышающуюся над Верхним городом Касбу, он заметил ее взгляд и сказал, что в этой крепости Сервантес семь лет провел в турецком плену и четыре раза безуспешно пытался отсюда бежать. И добавил, что каждый из нас сын своих дел и что, возможно, Сервантес понял это именно здесь, но скорее всего знал всегда, изнутри себя. Ксения подумала тогда лишь о своей неспособности ни на какие дела, которые стоили бы чьего-либо внимания. А об одиночестве своем не подумала совсем, и не из-за многолюдья алжирской столицы, а потому что Сергей шел рядом с нею и одиночества для нее рядом с ним не существовало так же, как многолюдья.
И теперь, на дороге, идущей вдоль Амурского залива, ее одиночество не с пустотой берега и океана было связано.
Дождь прекратился, но ветер бросал Ксении в лицо брызги от холодных бушующих волн. Отойти от волн подальше было невозможно, потому что дорога шла между кромкой воды и сплошной стеной скал. По этой дороге она прошла уже километров пять. Скоро должны показаться на высоком скалистом берегу сторожевые вышки Владивостокской пересылки. Во всяком случае, Галина сказала, что лагерь находится в шести километрах от города, у мыса Калузина.
Из города Ксения вышла затемно, а поскольку странная особенность организма позволяла ей точно чувствовать течение времени, то и пройденное расстояние было понятно тоже.
Что она чувствует уже не только время, но и расстояния, Ксения поняла здесь, на Дальнем Востоке. Еще в дороге поняла, когда две недели через бесконечные поля, леса и поросшую кривыми деревьями тундру ехала из Москвы в переполненном вагоне поезда, подолгу стоявшего на запасных путях. И в Николо-Уссурийске, где провела две недели. И в Комсомольске-на-Амуре, где села на речной катер. И особенно в Пивани, где сошла на сельскую пристань и сразу увидела окруженные колючей проволокой длинные бараки и странные сооружения на берегу – позже оказалось, что это камнедробилки, — и с пугающим безучастием над всем этим высящиеся сопки.
Проклятую Пивань Ксения вспоминала с содроганием – это была сама безнадежность. Хотя два месяца, которые она провела в этом селе, были по местным меркам прямо-таки благодатны. Сентябрь на берегу Амура выдался таким теплым, какого никто здесь не припоминал, и когда Ксения первый раз шла через сопки к лагерю, впору было снять не только пальто, но и вязаную шерстяную кофту, и платок. Она и сняла бы, если бы не бесчисленные летучие твари, которые облепляли открытые части тела. Это еще, сказали, к осени гнус отчасти сменился комарами и мухами, а каково здесь пришлось Сергею летом, думать ей было невыносимо.
Лишь в начале пути от Пивани Ксения полагала, что идет к лагерю. Когда же спустилась с первой сопки в долину и, поднявшись на вторую сопку, сверху взглянула на следующую долину, — только тогда поняла, почему старуха, у которой она сняла угол в избе у пристани, говорила не «в лагере», а «в лагерях». Это была не особенность местной речи, а точное обозначение того, что протянулось до горизонта.
Сколько здесь лагерей, понять было невозможно – зона выглядела бесконечной. Карьер, лесоповал, камнедробилки, которые Ксения уже распознавала среди других сооружений, тоннель в скале и бараки занимали все пространство, сколько хватало взгляда, и на этом пространстве, как черные муравьи, копошились люди, как муравьи же одинаковые. Глядя с сопки на все это, бесконечное, Ксения с ужасом поняла, что найти Сергея среди тысяч заключенных невозможно.
Даже теперь, у океана, под пронизывающим морским ветром, ее пробрала дрожь при этом воспоминании. Но она поспешила сказать себе, что ее положение теперь более обнадеживающее, и дрожь, вызванная страхом, прошла. Физическая же дрожь, от ветра, была ей безразлична.
Что будет, если Галинины договоренности окажутся недействительными, Ксения старалась не думать.
Галина была первым человеком, с которым она познакомилась во Владивостоке. Вернее, первые два человека лишь чудом Ксению не убили, но поскольку они не представились, можно было не считать это знакомством.
Выйдя на привокзальную площадь, Ксения мельком подумала, что вокзал во Владивостоке похож на Ярославский в Москве — те же приметы неорусского стиля. Но она так устала в дороге и так давно не ела, что архитектурные красоты – это было последнее, что могло ее заинтересовать. Она хотела лишь поскорее найти комнату, в которой есть кровать, или снять угол с кроватью, купить что-нибудь съедобное, съесть, сидя на этой кровати, сразу же на нее упасть и провалиться в сон.
Но найти все это в незнакомом городе не представлялось быстрым и легким делом. К тому же Владивосток был городом портовым, и связанная с этим опасность была ощутима. Когда, вырвавшись из Крыма на последнем военном корабле, Ксения с папой несколько лет жили потом в тунисской Бизерте, она научилась такую опасность распознавать. В порты выносит ежедневно сотни, тысячи людей, и многие из них в большом разладе с жизнью – так папа ей объяснял, называя эту портовую опасность органичной.
Но железнодорожный вокзал находился не в порту, а в центре Владивостока, поэтому мысль об опасности Ксения прогнала. Искать гостиницу было, разумеется, бессмысленно: в них размещали разве что командированных, да и то с разбором. А жена заключенного не должна была рассчитывать на гостиницу. Каждое ее напоминание о своем существовании вообще могло закончиться плохо.
В броуновском движении привокзальной площади участвовало немало китайцев. Их вообще было много на Дальнем Востоке, и китайский оттенок жизни хоть и едва уловимо, но ощущался даже в пейзаже. Еще в поезде, глядя в окно, Ксения вспоминала стихи Северянина — о драконе, который из красной глины слеплен на фанзе, и о ярко-синих небесах, и о бархатных полях и резких горах… Вообще-то его стихи казались ей манерными, но именно эти были в своей простоте чисты, как безмятежный вздох.
Ксения не была уверена, что китайцы понимают какой-нибудь из известных ей языков, поэтому высмотрела в толпе на площади русского лотошника. Приземистый, лицо простое, взгляд равнодушный, возраст немолодой – все это позволяло надеяться, что прицельного мужского интереса он к ней не испытает. Собственная невзрачность, усиленная дорожной усталостью, укрепляла эту надежду.
— Комнату? — с тем же, что и во взгляде, равнодушием переспросил лотошник. — Надолго?
— Пока на несколько дней, а дальше как сложится, — ответила она.
— Как сложится! – хмыкнул он. – А постель тебе подай, а потом стирай за тобой.
— Постель не обязательно, — поспешила уверить его Ксения. — Я могу и так.
— Ладно. — Он сложил лоток, на котором лежали пироги необычной формы. — Пошли, отведу.
— Я и сама могу дойти, — сказала она. – Вы только скажите куда.
Но лотошник молча пошел через площадь, ловко пробираясь в толпе, и Ксения сочла за благо пойти за ним.
Владивосток отличался от городов, в которых она бывала — и от приморских, как Ялта, Бизерта или Аль-Джазаир, и от среднерусских, как Москва или Клин, и от французских и немецких. Он террасами спускался сверху, с сопок, но несмотря на столь очевидную планировку показался Ксении беспорядочным. Во всяком случае, она не могла понять, куда они с лотошником пришли, хотя путь был совсем не долгий и, по ее впечатлению, они не удалились от центра города.
Квартал выглядел как самые настоящие трущобы с узкими и грязными улицами. Здания, в основном из красного кирпича, казались разномастными из-за того, что были опоясаны открытыми подвесными галереями, точнее, не галереями, а длинными балконами. Балконы переходили друг в друга, потому что дома либо стояли вплотную, либо соединялись воздушными мостками. В каждой подворотне виднелись дворы, скорее всего, проходные. Ксения подумала, что все это лишь выглядит хаотичным, на самом же деле составляет какую-то сложную систему, в которой можно, однажды нырнув, исчезнуть навеки.
В один из таких дворов и свернул лотошник. Ксения машинально последовала за ним, но как только оказалась в этом дворе, ей стало так не по себе, что она остановилась и оглянулась. К ужасу своему, подворотни, в которую свернули с улицы и которая обратно на улицу, значит, должна была вывести, она не увидела. Как могло такое получиться буквально после нескольких шагов, было непонятно. Может, это всего лишь эффект сгущающихся сумерек…
— Дальше не пойду, — сказала Ксения.
Ее вожатый обернулся, и она увидела, что равнодушное выражение сошло с его лица.
— А дальше тебе и не надо, — ухмыльнулся он. — Кофр кидай и иди куда себе хочешь. Куда дойдешь.
То, что он назвал ее багаж именно кофром, а не мешком, как его обычно называли, напугало Ксению не меньше, чем его «куда дойдешь». Кофр этот Сергей купил в Алжире перед их отплытием на пароме в Марсель. Ковровая ткань с восточным орнаментом была натянута на металлический каркас, и кофр поэтому был легкий, вместительный и прочный. Собирая Ксению в дорогу, Домна обшила кофр брезентом, сказав, что иначе ее из одного только любопытства ограбят. Вот и брезент не помог…
— Не брошу, — глядя в плоское веснушчатое лицо лотошника, ответила Ксения. – Не могу.
Она действительно не могла отдать кофр, и не потому, что им дорожила, хотя и дорожила тоже, как всем, что напоминало о Сергее. Но главная причина состояла в том, что в кофре лежал овечий тулуп, который Домна чудом купила с рук в Москве. Вот-вот начнется зима, в демисезонном пальто ее здесь не пережить, а значит, потеря тулупа лишила бы Ксению возможности выходить на улицу, то есть сделала бы ее пребывание во Владивостоке бессмысленным.
— А ты моги, — осклабился вожатый. — Поживей давай.
Он протянул руку к кофру. Ксения отшатнулась и бросилась в ту сторону, где, ей казалось, должна была находиться подворотня, через которую они попали во двор. Может, она и не ошиблась в направлении, но добежать до подворотни не успела – перед нею возник еще один человек, притом, в отличие от лотошника, не приземистый, а высокий. Он материализовался ниоткуда, буквально шагнул из стены. Сумерки сгустились так, что черты его лица были уже неразличимы, но ей и не нужно было видеть его лицо – она чувствовала исходящий от него дух, и это был дух не просто опасности, а бандитской жестокости.
— Стой, молодка, — спокойно сказал он. — Не бегай. А то бить тебя придется.
Второй раз в жизни Ксения слышала эти слова. И знала, что за ними последует. Только, в отличие от прошлого раза, ни на чью помощь теперь не рассчитывала. Правда, и в тот первый раз она ни на чью помощь не рассчитывала тоже. Но тогда помощь пришла, а сейчас…
Ксения рванулась в сторону, пытаясь обойти бандита. Но он сделал неуловимые полшага, и ее порыв привел лишь к тому, что она ударилась о его грудную клетку, как о стену, и, как о стену же, чуть лоб себе не расшибла.
Он ударил ее сразу, как только она отшатнулась. Ударил, кажется, не по-настоящему, просто ткнул в лоб ладонью. Но Ксении и этого хватило – она упала навзничь, и лишь кофр, оказавшийся у нее за спиной, помешал ей грянуться о землю затылком. Она молча извернулась и обхватила кофр обеими руками. Убежать не удастся, это понятно. Но тулуп она не отдаст. Пусть убивают.
Неизвестно, собирался бандит ее убивать или нет, но когда ударил ногой под ребра раз, потом другой, дух у нее зашелся от боли. Ксения вскрикнула, хотя надеялась удержать боль в себе, потому что выпускать ее в мрачное трущобное пространство было бессмысленно. Напрасно надеялась – не удержала. Удары следовали один за другим, по плечам, по ногам, снова по ребрам, руки ее сжимались сильнее, обнимая кофр, пальцы крепче вцеплялись в брезент.
«Сейчас в висок ударит — и все», — мелькнуло в сознании.
В голове вспыхивали огненные импульсы, отдавались в ушах пронзительным звоном.
— Ишь как впилась!.. — сквозь этот мучительный звон услышала Ксения. — Золото у тебя там или чего?
За этим вопросом последовал такой удар под ребра, что ответить она не смогла бы, даже если бы намеревалась.
— Да кончай ты ее, — послышался второй голос. — Гля, руки у ей свело, не отымешь у живой-то.
По равнодушному тону Ксения поняла, что этот голос принадлежит лотошнику — тоже, значит, бандиту. Может, все здесь бандиты, но какая теперь разница, все или только эти двое.
Как горько умирать в одиночестве!.. Это было последнее, что Ксения подумала, проваливаясь в предсмертную тьму.
И в ту же минуту поняла, что тьма не принимает ее. Сквозь боль послышался женский голос, такой пронзительный, что мог бы, наверное, прорезать не сырой осенний воздух, а камень и сталь.
— Ты шо ж цэ робиш, ирод?! — кричала женщина. Несмотря на пронзительность, в ее крике совсем не было страха. — А шоб твои очи поганые повылазили! А ну пошел звидсы, гад! И ты гэть давай! Зараз Линя с хлопцами позову, воны ж вам!..
«Почему Линя? — Недоумение качнулось у Ксении в голове, как вода в лохани. — Ведь Линь в Москве…»
Китайская прачечная размещалась в цокольном этаже дома, стоящего рядом с ее московским домом в Подсосенском переулке, и хитрый Линь был богом и царем, вернее, императором этой прачечной.
— Ты меня не стращай, не стращай! – ответил бандит. – Чего налетела, как клушка?
От того, что он перестал бить Ксению, она смогла не только ясно расслышать его слова, но даже различить их тон, хоть и не испуганный, но все же несколько опасливый.
— А шоб бошку твою бандюганскую расшибить! — гаркнула женщина. — И без Линя обойдусь, побачишь!
— Так это сестра твоя, может, а, Галина? — примирительным тоном поинтересовался лотошник. И добавил, обращаясь к бандиту: — Она ж сестру ждала с Украины.
— Ну так и сказала бы, что сестра. – Голос у него стал – само добродушие, явно притворное. – А то сразу – бошку! Веди домой родню-то, Гала.
— Тебя забыла спросить, куда кого вести. Ходи себе.
Послышались удаляющиеся шаги, потом наступила тишина. Правда, не полная – теперь, когда ее не били, Ксения различила не звуки даже, а отзвуки жизни, идущей в приземистых домах, которые окружали двор. Звуки эти были беспокойные, и жизнь, их порождающая, была, наверное, беспокойной тоже.
— Встать-то можешь? — Галина присела рядом на корточки. — Давай помогу.
— Спасибо, — пробормотала Ксения. — Я сейчас.
Дыхание отдавалось болью в ребрах, каждое произнесенное слово заставляло вздрагивать, а когда оперлась руками о землю, чтобы встать, боль пронзила все тело так, что она снова упала грудью на кофр.
— Чего ты, и правда, в мешок свой вцепилась? – Галина подсунула руки Ксении подмышки и стала ее поднимать. – Они ж только с виду люди, а так хуже зверей. Убили бы.
— И пусть… — пробормотала Ксения, с трудом вставая на ноги.
— Пусть! — Галина покачала головой. — Жизнь отдать за тряпки — чи цэ дило?
— У меня тулуп… там, в кофре… — морщась от боли при каждом слове, ответила она. – Зимой на улицу… не выйти… без него. И Сергея будет не найти.
Хоть бандит бил ее не по голове, но голова гудела, кружилась, и слова выговаривались бессвязно.
— Какого ты тут Сергея на улице собралась искать? – засмеялась Галина. И сразу же догадалась, и спросила другим уже тоном: — Он зэк у тебя?
— Да.
— На пересылке?
— Сказали, что там.
— Кто сказал?
О том, что Артынова С.В. отправили этапом во Владивосток, сказал ей делопроизводитель из конторы Пиванской зоны. Контора стояла на центральной улице села, Ксения с низкорослым худым человечком зашли за угол, и, когда она сунула ему еще одну купюру сверх тех, которые уже отдала за сведения о муже, он добавил, ухмыльнувшись, что во Владивостоке зэков набивают, как сельдей, в пароходные трюмы и везут на Колыму, на золотой прииск Мальдяк, а уж оттуда живыми не возвращаются, так что зря она тащилась из Москвы в этакую даль и во Владивосток поедет тоже зря.
Еще прежде надо было бы рассказать, как искала Сергея в Николо-Уссурийске, куда, согласно выданной ей в Москве справке, его отправили отбывать срок, в этой справке почему-то не названный. В гнилом Николо-Уссурийске, где люди, даже свободные, мрут как мухи, да и свободными их невозможно назвать. Как удалось ей наконец выяснить, что из Николо-Уссурийска его зачем-то отправили в Пиванскую зону. Как не было билетов на поезд до Комсомольска, из которого в эту зону можно было добраться. Как повсюду вставала перед нею стена бесконечных «нет», и повсюду же эти «нет» падали друг за другом, словно костяшки домино, однако «да», единственного «да», которое было ей необходимо, за ними, упавшими, все равно не обнаруживалось.
Но рассказывать обо всем этом было бы слишком долго, поэтому на Галинин вопрос Ксения ответила:
— Конторщик из прежней его зоны.
— Думаешь, не обманул? — Галина подняла с земли кофр и сказала: — Не украду, не бойся.
— Обманул или нет, не знаю. — Забывшись, Ксения вздохнула. И, вскрикнув от боли, добавила: — Постараюсь понять.
— Ты с поезда? — спросила Галина.
— Да. Этот, что сюда меня привел, на вокзале с лотка торгует. Обещал комнату найти.
— Этот найдет, ага. Домовину он найдет. Да и на домовину посквапится.
Галина понесла кофр к двери одноэтажного дома.
— Ведь вы меня совсем не знаете, — сказала ей в спину Ксения.
— Неужели? – обернувшись, усмехнулась та. — Да у тебя на лбу написано, что блаженная. Звать как?
— Ксения. Костромина.
— Годов сколько?
— Двадцать девять.
— Пошли, Оксана, хоть лицо обмоешь, а то чи в дурку сведут, чи в милицию.
ФРАГМЕНТ 3
Глава 7
И вот Ада ожидала, когда будет готова Катина виза, и каждый день в военной Москве был для нее мучительным.
Не то чтобы она не знала, чем себя занять. Москва предлагала для этого миллион всяческих возможностей, как это и было всегда. Но теперь каждая из этих возможностей вызывала у нее недоумение, а представив себя в театральном зале, она содрогнулась.
Федя попросил забрать в университете справку о сданных им экзаменах, она забрала, а когда ехала обратно, две женщины разговаривали в метро о том, что у одной из них племянника, сорок лет ему, вызвали в военкомат для сверки данных, и всё, домой не вернулся уже, хотя как его могли призвать, когда он не служил даже, только в институте военная кафедра была, так ведь это двадцать лет назад, и чему там учили, ничему, и диабет у него, и детей трое.
— Через неделю звонит — я на Украине, приказа ожидаем. Ни обучения не было, ничего. А что за приказ, куда? Он и сам не знает. У сестры онкология, еле ходит. Его же вернут, — всех спрашивает, — вернут же? А кто его теперь вернет? Что с воза упало…
От того, что это говорится о живом человеке, у Ады волосы на голове зашевелились. Женщины вышли на следующей станции, а она чуть не проехала свою, потому что отвлечения ради открыла в айфоне городской новостной портал и тут же наткнулась на афишу завтрашней публичной лекции в культурном центре на Сивцевом Вражке.
«Что такое внутренняя свобода? Как не зависеть от обстоятельств? На лекции вы узнаете, что об этом говорили римские философы Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий», — приглашала афиша.
Словно кто-то нарочно рисовал все это встык — плакатно, броско, примитивно в своей наглядности. Жизнь больше не стеснялась этой примитивности, лобовой этой пошлости.
Рита позвонила через два дня.
— Ты в Москву случайно не собираешься? — спросила она. — Друзья ищут, с кем документы из Парижа срочно передать. По почте месяц будут идти и неизвестно еще, дойдут ли, а документы важные. Если в ближайшее время едешь, они могли бы тебе в Бонн их прислать, а ты привезла бы. – И вздохнула: — Как в Средневековье теперь живем. Подруга в Ганновер к матери специально на машине поехала, так чего только ни везла. В Ригу свидетельство о рождении иностранному агенту одному, другому в Польшу ключ какой-то динамометрический, уж не знаю, что это такое и зачем ему, третьему книг по буддизму две коробки… Машина на днище ползла, говорит. У нее паспорт израильский, а то кто б ее в Европу пропустил, с нашими паспортами теперь только в Верхний Ларс…
— Я в Москве, Рита.
Аде показалось, что ее подруга пьяна.
— Так что ж не объявляешься? — воскликнула та. — У меня дэ эр завтра, забыла?
Ада не то что забыла, а давно уже не держала в памяти дни рождения. Каждое утро айфон присылал напоминания о них, и она звонила или посылала письменные поздравления, все чаще отмечая, сначала с горечью, а теперь уже с безразличием, как много стало в Москве людей, которым она опасается звонить, чтобы не услышать, как война спасла их от нападения НАТО.
— Приходи в Time Out, — сказала Рита. — Помнишь еще, где это?
Память у Ады и вообще была хорошая, а бар Time Out на террасе под крышей гостиницы «Пекин» она помнила и вовсе отлично, потому что из него открывался прекрасный вид на Москву и они часто отмечали там разные примечательные события из жизни их галереи The Best Evening, да и просто из своей жизни.
Неужели все это было? И чем была та искрившаяся весельем жизнь, и какова ей цена, если теперь она не сметена отчаянием и стыдом, а идет себе и идет как ни в чем не бывало?
— Придешь? — спросила Рита.
Ада ясно расслышала, как дрогнул ее голос. И просительную нотку в нем расслышала тоже. Ей стало так стыдно, как однажды в нищих кварталах Калькутты, куда она ездила волонтером после бакалавриата в Лондонском университете. Невозможно было представить, что когда-нибудь она почувствует такое в Москве.
— Конечно, приду, — ответила Ада. — Спасибо за приглашение.
Приглашение это отравило ей жизнь на целые сутки. Словно жернов на шею повесили – и непонятно зачем, и снять почему-то нельзя.
Вдобавок еще, когда вышла из метро возле Зала Чайковского, вспомнились разговоры на Ташиных поминках, и от того, что сейчас снова предстояло нечто подобное, настроение испортилось окончательно.
Было уже холодно для вечеринки на открытом воздухе, но газовые горелки согревали террасу, превращая ее в отдельный и уютный мир. Все собравшиеся так себя в нем и ощущали — отдельно, уютно и напряженно. Это последнее удивило Аду, но она всегда чувствовала главную ноту общего настроения, и именно напряжение висело в воздухе так, что его, казалось, можно было потрогать рукой.
Она пришла вовремя, но компания уже собралась. Собственно, это не была именно компания, не было и общего стола, все рассредоточились по веранде, кто-то перешел внутрь бара. Рита всегда устраивала свой день рождения таким образом. Выходило непринужденно, и во время разнообразных разговоров на двоих-троих у Ады всегда появлялись в этот день новые интересные знакомые.
— Эдька! Если б ты знала, как я рада тебя видеть! — Рита бросилась ей на шею так, что чуть с ног не сбила. — Думала, уже вообще не встретимся. Мы же здесь как в гетто теперь.
Она всхлипнула. Правда пьяная, что ли? Ада вгляделась в ее лицо.
— Не пьяная и не под наркотой. — Рита поймала ее взгляд. — На антидепрессантах.
— У тебя что-то случилось? — машинально спросила Ада.
Прежде чем она успела устыдиться глупости своего вопроса, Рита ответила:
— А то нет! Зять, слава богу, прорвался через Верхний Ларс этот чертов, трое суток там простоял. Динка беременная, на стенку лезет и, дура такая — «у него в Грузии любовница». Можешь себе представить? Нашла о чем переживать. Ну и вообще… Что теперь будет? Ничего же скоро не будет, ни айфонов, ни лекарств, вообще ничего! Как ты думаешь?
Она посмотрела на Аду с надеждой.
— Возможно, — ответила Ада.
— Возможно!.. Хорошо тебе с твоим железобетонным гражданством. А нам что делать? У меня даже шенген кончился! Фигушки кто теперь даст.
— Ты хочешь уехать? – спросила Ада.
Она никогда не интересовалась Ритиной национальностью, но фамилия Гроссман позволяла предположить, что та может получить израильский паспорт.
— Кто ж хочет из Москвы уезжать! — хмыкнула Рита. — Тем более в Израиле жара и дорого всё. Но мало ли как сложится? Вдруг тут гражданская война? Это у нас запросто. Динке подружка ее заявила: война уже идет, так что все равно куда и как, хоть пешком через границу. Ну, та блаженная, ей, конечно, хоть пешком, хоть босиком. А нам как?
Она замолчала. Ада молчала тоже. Это молчание среди разноголосицы разговоров втягивало в себя с каким-то утробным гулом – знакомым гулом…
Она засиделась в университетской библиотеке допоздна. Был конец декабря, за окнами стояла тьма, а в читальном зале тишина. Ада читала страницу за страницей, с самого утра, забыв пообедать, и все прочитанное сливалось воедино, но это происходило не от усталости, а от того, что оно и было единым и представало уже не тихим шелестом страниц, а нарастающим гулом. И вдруг… Невозможно было сказать, что изменилось, когда она прочла, что осенью сорок первого молодые люди уступали пожилым евреям места в трамваях и это казалось естественным, а ровно через год, когда молодая женщина уступила место пожилой еврейке с больной ногой, в Штутгарте это было, то ее чуть не вышвырнули из вагона, водитель остановил трамвай, приказал обеим немедленно выйти, и довольный хор пассажиров это приветствовал. То есть люди перестали быть людьми только потому, что им сказали, что это правильно, что так принято в обществе, что это одобряется… Это была не первая такая история и точно не последняя, их были тысячи, Ада прочитала их тысячи. Но вдруг словно лопнула у нее внутри какая-то струна – она не просто поняла, а почувствовала, как это происходило. Физически, будто шагнув на нее, почувствовала трясину, в которую постепенно, незаметно и неотвратимо втягивалось всё – вся Германия, все ее умы, способные сопрягать события, все ее сердца, способные сочувствовать. И ни ум, ни сердце, ни мудрость старости, ни чистота юности, ничто не помогло никому, потому что невозможно противостоять этой страшной нутряной силе – рано или поздно она втянет тебя с головой. В ней нельзя жить себе потихоньку, как раньше жил, можно либо слиться с нею, либо вырваться из нее собственным яростным усилием или рывком протянутой извне руки.
Понимание было в ту минуту таким убийственным, что Ада чуть сознание не потеряла, словно от удара под дых. И потом, уже вернувшись в Ниппес, в мансарду, к Яну, долго не могла прийти в себя.
Она не представляла, что когда-нибудь увидит все это воочию.
— Ты привыкнешь, Рита, — наконец проговорила Ада. — К сожалению, ты привыкнешь. Мобилизация пройдет, зять вернется, галерея будет работать. Айфон тебе кто-нибудь привезет. Или в Эмиратах купишь.
Ян, может быть, не зря ненавидел ее прямолинейность. Она и сама себя за нее сейчас ненавидела.
К ее удивлению, Рита не обиделась.
— Это ладно — делать-то что? — спросила она.
Ада перевела дух. Оказывается, это был не крик отчаяния, а практический вопрос.
— Ты ведь уже слышала. — Она пожала плечами. — Идти через границу. Пешком и босиком.
— Ой, вот только не надо! Ты сама пошла бы?
В сумке звякнуло сообщение.
«Кате дали визу. Получает завтра утром. Беру вам билеты на завтрашний вечер?».
«Да», — написала она в ответ.
И, убрав телефон, сказала:
— Не мне давать тебе советы. Но раз ты спрашиваешь… Да, я пошла бы через границу пешком и босиком.
Легко ей ответить на этот вопрос. И объяснять Рите почему, к счастью, не обязательно. Долго было бы объяснять.
Когда Ада вышла на улицу, начался дождь. Огромный, широкого размаха город сиял в небесных струях под светом ярких фонарей.
Никогда она не чувствовала себя настолько чужой в Москве. И сколько ни говорила себе, что она и есть здесь чужая и у нее нет причин об этом переживать, тяжесть лежала на сердце, не объясняя себя.