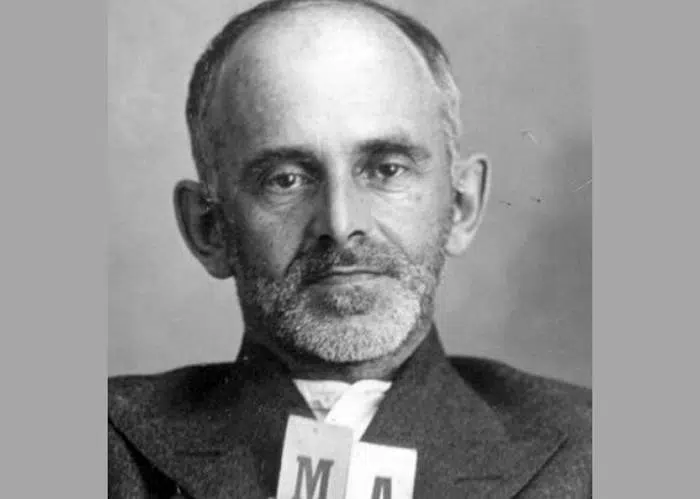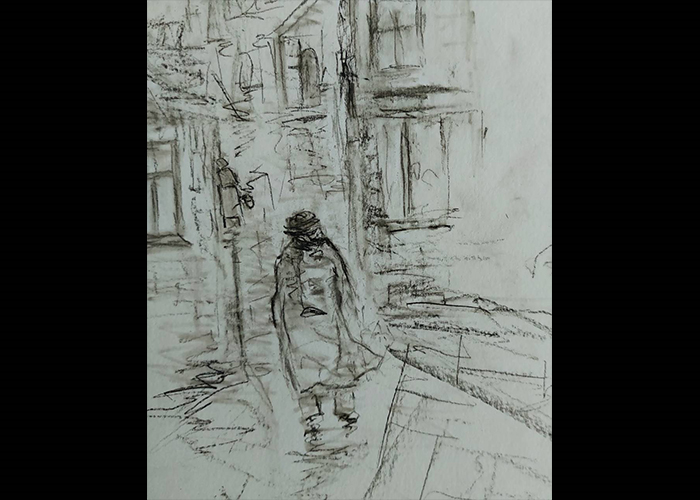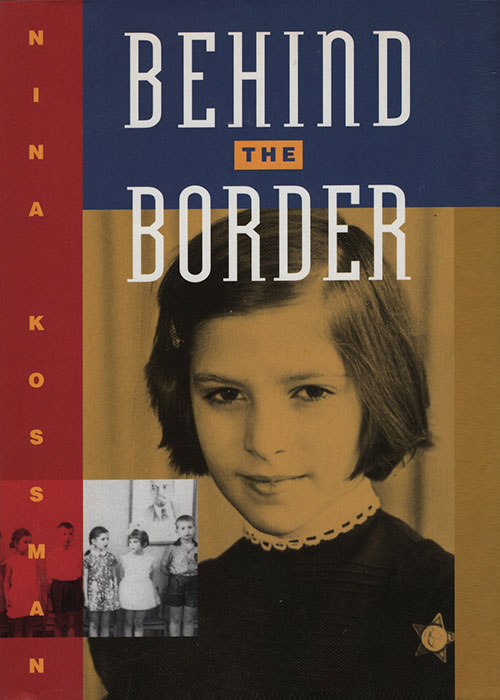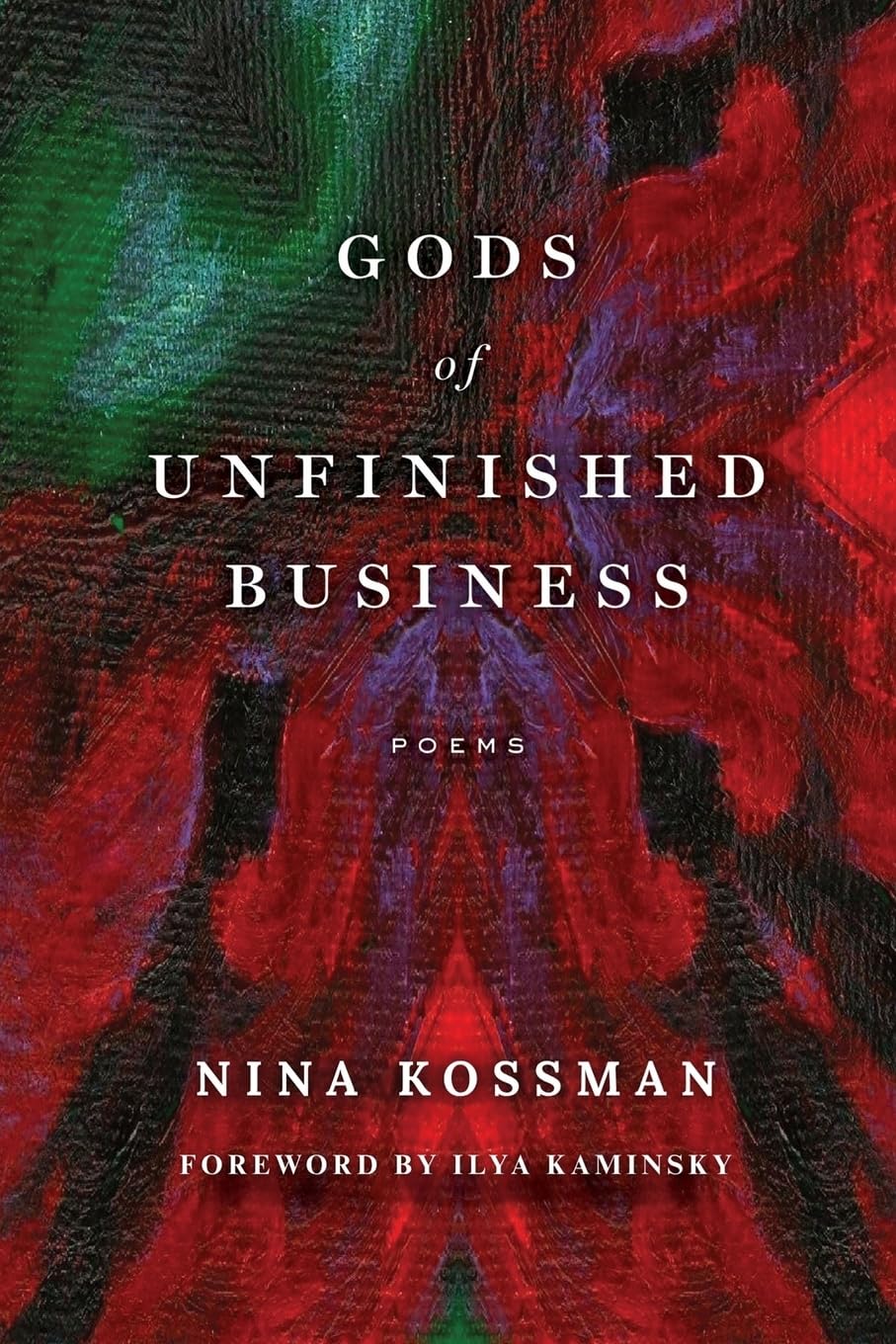Ясность и цельность
Есть места (в мире вообще; я думаю о таких в Москве, которая, подобно Вене у Андрея Левкина, — «операционная система» для самоустройства человека) которые приводят в порядок ум (примерно как математика), и есть, которые создают гармонию в душе, устраивают динамическое равновесие её разнонаправленных, разноскоростных и разнообъёмных процессов. Совсем коротко говоря: пространства, отвечающие за ясность — и пространства, отвечающие за цельность. (Понятно, что ясность и цельность могут совмещаться в одной отдельно взятой голове, но делают они это совсем не всегда и не обязательно. И не всякий раз бывают нужны одновременно.) К пространствам первого типа у меня относится Чертаново. К пространствам типа второго — окрестности Ленинского и Ломоносовского проспектов, метро «Университет», Воробьёвых гор (это — самое сильное по воздействию из моих уравновешивающих пространств). — В разные части города отправляешься за разным эмоциональным и «экзистенциально-пластическим» опытом, затем, чтобы внутренне принять разную, соответствующую этим пространствам, ими создаваемую форму. Городом лепишь себя.
К самопрояснению
Борются во мне — лупят мною друг друга по голове, да наотмашь — две силы, — обе жестокие, хищные, нахрапистые, тираничные: усталость и жадность к миру (она же, должно быть, и жажда самоутверждения, которая, из особенной гордыни, не хочет называть себя этим именем. Самоутверждения, заляпывания лица мира своими следами, присвоения его, захапывания его себе в карманы, где уж и места нет, и всё туда набитое стиснуто в беспорядке). Ни одна не хочет уступать. Вторая пока сильнее, отчего первая только пуще злится — и заводит в ответ вторую. Обе сжигают мои внутренние ресурсы, ибо что ж им ещё сжигать-то. Обе — от избыточности — бесплодны.
Созерцатель, ха-ха.
Кажется, гармония, сестра смирения, мать точности — которая мне на каждом шагу видится в воображаемых «других» (другие — всегда воображаемые, иных и не бывает) — должна бы быть третьей силой, способной установить свою власть — ещё более тираническую — над этими двумя. И привести их к согласию (принудить к миру, ха-ха-ха) друг с другом и с ней самой.
Нет в мире виноватых
Вдруг подумалось: вина / виноватость — это неточность существования в мире. По мере накопления таких неточностей, обрастания ими (и притупления, из-за них, чувствительности к миру. Вина — это сбой настроек) человек потихоньку вытесняется из мира и, наконец, с превышением ими некоторой критической массы, вытесняется из него совсем.
Смирение библиофага
Чтение каждой книги — по крайней мере столько же присвоение её, сколько смирение перед ней (перед теми формами, которые она в тебя впечатывает, перед теми путями, которыми она тебя внутренне ведёт). Мне вообще-то теперь кажется, что больше — смирение, — а в молодости, конечно, чувствовалось, что больше — присвоение. — Чтение — непрерывное упражнение в смирении (и в пластичности). В общем — молитва агностика.
Живи всегда
И по сию минуту упорно кажется, что жить настоящим, непосредственно осязаемым, и по преимуществу в нём — слепота слепущая: жить надо во все стороны и во всём сразу (от прошлого и будущего — до несбывшегося, воображаемого, приснившегося, показавшегося и невозможного. У жизни больше осей, чем она себе представляет.). Настоящее — это просто чтобы было за что держаться. Убого-гедонистическое «живи настоящим» я бы для своего обихода заменила на «живи всегда».
Или уж расширила бы границы настоящего до полной максимальности.
Если бывают грустные, меланхоличные и созерцательные гедонисты, гедонистичные пессимисты, — вот, это мой случай.
О публичности
Всё публичное, в чём случается / приходится участвовать, — в сущности, экзамен (переживается по его архетипической модели; должно быть — а так оно и есть — ситуация экзамена для меня одна из основополагающих, образующих личность, «инициатических» травм). Всегда есть — или чувствуется, или воображается, что, в конечном счёте, одно и то же, — опасность его не сдать. Всё публичное несёт в себе зерно, готовый мощно развиться зародыш поражения — настолько, что оказывается почти его синонимом.
Но страшно интересно наблюдать за людьми (тихо свернувшись где-нибудь в уголке). Это вообще здорово раздвигает внутренние горизонты — поэтому, ради этого я, существо непубличное, заставляю себя — иной раз, правда, не заставляю, а всё-таки соблазняюсь, но заставляю и тогда — ходить в разные публичные места. Жизнь расцветает там на моих глазах диким прекрасным цветком, намного превосходящим своей мощностью всё, на что могу быть способной я (это даже не урок смирения: это чистое изумление). И совершенно мучительно как бы то ни было при этом себя проявлять, не приведи Господь, что-нибудь говорить во всеуслышание. Когда я повторяю хорошо обжитую формулу, что мне проще десять раз написать, чем один — сказать, — о, это не фигура речи.
Против этого, правда, — если уж никуда от публичного говорения не деться — есть одна «техника души». Надо представить себя не собой, а совсем другим человеком: уверенным, хоть сколько-нибудь гармоничным, таким, который не боится публичной речи или, по крайней мере, знает вот эту конкретную аудиторию давно и хорошо и чувствует себя в ней свободно. Вжившись в эту ситуативную роль, уже вполне можно что-нибудь говорить — она держит. Эдакий театр для себя.
Осень, осень
Поняв свою непоправимую уже отсталость от чего бы то ни было способного быть серьёзным и актуальным, поняла вдруг и то, что теперь уже это не страшно. Жизнь миновала — и давно — ту стадию, когда её нужно и возможно было активно устраивать: именно на уровне внутренних структур, то есть — самого настоящего. То есть, разумеется, я ещё как могу делать всяческие радикальные шаги в смысле внешнего её устройства, но мне уже не стать ни умней, ни лучше (хотя, оно конечно, самолюбие было бы очень радо и тому, и другому). Материал «схватился». И пластичность утрачена, и времени нет (большого биографического времени). В своём движении от истока к устью я уже далеко, далеко продвинулась к устью — и гораздо ближе уже к нему, чем к истоку. (Но вода в реке ведь одна и та же. И небо над водой одно и то же.) Уже поздно и бессмысленно завидовать, соревноваться, догонять, компенсировать упущенное. (Нет спору — всё это неимоверно освобождает, снимает громадную часть напряжений, среди которых — в тисках которых — человек живёт в молодости.) Остаётся плыть, смотреть, смотреть в небо, чувствовать на своей задранной к небу физиономии падающие на неё осенние листья.
Когда моё он имя произносит
Петербург для меня (молчуна-то одиночки) всегда был диалогическим городом, формой диалога и взаимодействия. Быть одной в Петербурге — всё равно, что говорить речи в пустой комнате. Нет, не потому, что Петербург пуст, это-то точно нет, — но потому, что он (для меня, конечно. Бывают же люди одиноки в Петербурге. Я когда-то даже думала о том, что он идеально для этого приспособлен) требует ответа — требует быть ответом.
Петербург — это большие каменные, но горячие губы, которыми мир тебя произносит.
Ему очень идёт осень — поздняя, пасмурная, дымчатая, влажная, без сентиментальностей, обманов и избытков весны, лета и самого собственного начала. Город мудрый и серьёзный (и одновременно уютный и человекосообразный) в этой почти монохромной влажности. — В Петербурге природа — жёсткая, неудобная — говорит человеку нечто очень важное: а именно то, что она с нами носиться не будет, что она вообще не в первую очередь имеет нас в виду и уж подавно не намерена быть нам удобной. Там она всегда даёт чувствовать свою надчеловечность. А город ей отвечает — о ценности и упорстве человеческого.
В Петербурге, безусловно, есть нечто стоическое, героическое, не без привкуса обречённости. И с его ясной структурированностью это связано напрямую, как даже не две стороны медали, а просто одна.
Москва — бормотание взахлёб (как мне не чувствовать родства с этим бормотанием, сама такая), а Петербург — внятное, чёткое, подробное высказывание (понятно, что всякая внятность и чёткость — ограничение, что за всякой стоят, делая её возможной, огромные массивы невысказанного: чем больше внешняя ясность, тем гуще и горше внутренние темноты, это ж известно). И оба они — об уделе человеческом, о чём же ещё.
Смотреть
Уж не знаю, «кем я кажусь миру» (с), (имею, впрочем, сильную уверенность, что мир моей персоной, к счастию, вообще не озабочен), но, в отличие от автора сопровождающей цитаты, себе я кажусь даже не ребёнком, играющим на берегу океана, а одним только глазом, распахнутым на мир в непреходящем, растерянном, огромном и довольно беспомощном изумлении.
Без названия
Цветёт липа — и этого одного уже достаточно для хрупкого, горького, исчезающе-сиюминутного, бессмысленного и совершенно несомненного счастья.
Настолько достаточно, что всё остальное было бы уже, кажется, разрушающе-избыточным.
Обыденность катастрофического
Уловила краем уха по несмотримому обыкновенно телевизору, будто некая организация (масштабная, типа ВОЗ) провозгласила, что конца — или даже облегчения эпидемии «в обозримое время» не будет. По всей вероятности, стоит это примерно того же, что и все остальные человеческие прогнозы, особенно связанные с текущей эпидемией. да сделайте ещё поправку на предельную неконкретность хрононима «обозримое время», — но во всяком случае, застала себя за (типичным защитным действием — ) внутренним обживанием этой мысли, за приучением себя к диктуемым ею новым (да и не таким уж новым) режимам дыхания. По идее — по прежним привычкам, — отсутствие надежды задохновенно, ан нет, — и в этом можно дышать, и полноценно, и глубоко: просто уже потому, что человеку нужно, необходимо дышать и полноценно, и глубоко. — И если до сих пор были ещё какие-то сомнения в том, что, в случае неустранимости катастрофы, возможно не (только) претерпевать её, но жить в ней, — то можно уже не сомневаться. И жить, жить, жить, — тем более, что именно такова сейчас единственная и несомненная возможность.
К сказке странствий
В «своём» — такая плотность и подробность контакта с реальностью, такая глубокая свобода, что, право, никуда не уезжала бы — когда бы не представление, во многом «головное», но определяющее все чувства, априорное, некритически переживаемое — согласно которому разъезжание по иным пространствам (едва ли не само по себе) делает человека лучше, крупнее, значительнее — и чем дальше, чем «инаковее» пространство, — тем лучше, крупнее и значительнее человек. Всё пафос самоформирования, соблазны и иллюзии его.
Рецепт её молодости
Дома я не умею быть старой — то есть, чувствовать и осознавать себя адекватно: слишком много здесь накоплено — в запас, не растратить — солнечности, радости, такого огромного ожидания будущего и такой веры в его непременность, что как будто даже и самого будущего: самого живого, дышащего времени.
Это пространство насыщено моим детством (и юностью, и молодостью — началом жизни, её подъёмом), как кислородом — и всё время меня ими подпитывает. Оно насыщено ими не как прошлым, не как чем-то минувшим и остановившимся, но как настоящим, как сию минуту совершающимся «сейчас». И детство, и юность, и молодость здесь — разные аспекты настоящего: только чуть-чуть поверни — и увидишь. Пока я живу здесь, я всё время буду в полноте своих времён — и маленькой, и юной, и молодой одновременно. Даже, наверно, тогда, когда времени не останется совсем.
Не говоря уж о том, что тут с каждым предметом, даже, несомненно представляющим собой элемент хлама, чувствуешь родство и экзистенциальное единство. Даже когда не обращаешь на это (сознательного, намеренного) внимания: чувствуешь фоном.
Я, конечно, человек воздуха, но — сладкого московского воздуха. Из других воздухов я сгущаюсь с великим трудом, — если сгущаюсь вообще.
К психопатологии обыденной жизни
А есть и такая психопатологическая черта обыденной жизни: сколько ни работай, почему-то упорно кажется, что работаешь мало. Даже просто уже количественно. И это вызывает особого рода чувство незащищённости, как бы пронизанности сквозняком.
Работа — это просто способ защищаться: от мира ли, от себя ли, от того ли, что больно, грустно, страшно, стыдно, трудно и темно. Она — совокупность (тем более эффективных, что выстроенных по определённым, вполне исследуемым и рационализируемым правилам) ритуальных, магических действий, заклятие хаоса, заклятие небытия. Бытовая магия, наивная и действенная одновременно.
Стоит отвлечься — а хаос с небытием тут как тут.
***
Работа — это просто способ подтвердить себе, что ты существуешь, ощутить — как ощущаешь воздух при ветре — собственное существование (понятно, что усилие этого подтверждения всё время приходится возобновлять — это почему-то не подтверждается раз и навсегда). Причём не результаты работы, нет — а именно сам процесс, само состояние создаваемой работой интенсивности, состояние втянутости в занятие, преследующее некую цель — которая превосходит тебя, которой, в общем-то, нет до тебя никакого дела, — но которой, кроме тебя, никто не достигнет. Это не то чтобы самоутверждение, нет, — это просто самоподтверждение — которое требует терпеливого самопреодоления в качестве своего важнейшего условия.
Кроме того, работаючи, выводишь на первый план сознания главным образом конструктивные аспекты себя. Все прочие, тёмные, хтонические, отправляются на задворки. Работа — это персональная утопия.
***
Бывает ещё и такое преинтересное состояние: ну вот лень тебе работать, не хочется, — но не работать не можешь: тебя выталкивает в работу (в выполнение чего-то, предположительно, обязательного, сколько ни заверяй себя, что мир без этого не рухнет) как в навязчивое состояние; только она — на время, пока длится — успокаивает твой внутренний зуд и создаёт сладкую иллюзию, что «всё в порядке».
***
За пределами законченного текста немедленно начинаешь чувствовать себя беззащитной — как будто выселяешься за пределы обжитого дома (даже неважно, что он собственноручно построен; важно — что обжит), даже если он — времянка (не большая книга всё-таки, не монография, не роман — так, маленький текст, лёгкая складная палатка, продуваемая всеми ветрами) — и, конечно, виноватой (а что это я не работаю — не перегоняю время в смысл?). Нет бы чувствовать освобождение! — напротив, сразу начинаешь невротически искать, вокруг какого бы ещё текста обвиться.
Благо, не скудеет источник.
Вдруг взяло да подумалось: привычка / потребность (всё время) работать — свидетельство внутренней (да и внешней) слабости, потребности в опорах и подпорках, в панцире, корсете, искусственном скелете: собственное душевное тело не держит. Лентяи, живущие просто так — в сущности, не просто самодостаточные и свободные, но именно сильные люди. Праздность — пространство силы. (В работе сказывается какая-то «вторичная», младшая сила — производная от того, с чем приходится иметь дело, что приходится преодолевать, чему приходится сопротивляться: от материала. Работа в некотором смысле, подумаешь, паразитирует на своём материале. А у праздности сила своя собственная.)
***
Вот мечтала я в детстве найти такую работу, чтобы на ней можно было всё время читать. И ведь нашла же! (вообще идея о том, что мечты сбываются, даже самые дикие, подтверждалась неоднократно. Правда, у меня сбываются в основном дикие, — ну они же дикие, не знают, что нельзя, вот и исполняются.) А читать как следует (в желаемых объёмах) всё равно некогда.
Это всё жадность к миру раздирает, да. Собственно, пусть раздирает, ничего против не имею, наоборот, — она — разновидность витальной силы. Куда хуже, когда читать не хочется. Но такого не бывает почти никогда.
О свободе и её источниках
Вообще-то, повседневность чувствуется мне по большей части (да уж не исключительно ли?) как область свободы (а как бремя — скорее разрывы в ней, поскольку они требуют напряжения и усилий, а в повседневности много спасительных автоматизмов, расчищающих пространство для внутренней свободы и вообще позволяющих сосредоточиться на внутренних феноменах). Повторяющееся — великая сила, терпеливо шлифующая внутренние стёкла.
О чаемых свойствах
Качества, обладания которыми мне больше всего, центральнее всего хочется в жизни (понимая их как фундамент всего прочего) — это (в нерасторжимом единстве) интенсивность = плотность освоения пространства существования и чуткость = тонкая и быстро срабатывающая восприимчивость (к разному, в том числе сильно отличающемуся от привычного).
Roma, Amor
Из всего многообразия форм любви к городам самая странная поразила меня, похоже, в отношении к Риму.
Совсем не хочется мне получать от него эстетические впечатления, наращивать в себе знания о нём, вообще, аналитически всматриваться в него и даже его проговаривать — точнее, всё это, разумеется, есть (куда ж мы без аналитизма, впечатлений, наращивания и, особенно, проговаривания), но нисколько не чувствуется главным.
Мне хотелось бы (чего, разумеется, никогда не будет, но у желаний и воображения — собственная реальность), чтобы Рим стал моей повседневностью, обыденностью, рутиной, чтобы между им и мною не было просто никакой дистанции. Чтобы он был не фигурой, но фоном, на котором возникают — и в котором растворяются — все фигуры.
___________________________________________________
Впервые опубликовано в журнале «Семь искусств» (ред. Евгений Беркович); позже в двух томах: «Дикоросль» (Ганновер: Семь искусств, 2020) и «Дикоросль-2» (Ганновер: Семь искусств, 2021).